
«Для меня как журналиста – это в том числе исследование, поэтому форма интервью суха и «скелетна». Это такой творческий «экстракт» от авторов среза времени 20-х годов… Герои – самобытные, самостийные, яркие личности. В их текстах, в их ответах – «люди, море, тайга» (Василий Авченко), «праздник, игра, волшебство» (Вадим Левенталь), «правда и чистота» (Матвей Раздельный), «ответственность за тексты, минуты наедине и немного искрящейся магии» (Алексей Небыков)», – рассказывает о своем исследовании Екатерина Савченкова.

Вадим Левенталь – писатель, критик, редактор, публицист. Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 2008 года. Сотрудник издательства «Лимбус Пресс» (2007–2017), ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер». C 2017 года ведет серию современной авторской прозы «Книжная полка Вадима Левенталя» в издательстве «Городец».
В 2010–2011 гг. выступил автором идеи и подготовил к изданию в «Лимбус Пресс» двухтомник «Литературная матрица» — «альтернативный учебник» русской литературы, главы для которого написали сорок популярных современных писателей, от Андрея Битова и Людмилы Петрушевской до Захара Прилепина и Сергея Шаргунова. К 2015 году вышли еще два тома проекта — «Советская Атлантида» и «Внеклассное чтение». Среди других значимых редакторских проектов – сборник рассказов советских и современных писателей «Это футбол!» (Лимбус Пресс, 2016; составитель), первая на русском языке биография Пазолини («Жизнь Пазолини», Лимбус Пресс, 2011), сборник эссе Виктора Гюго «Что я видел» (Лимбус Пресс, 2015; автор комментариев), роман Салмана Рушди «Земля под ее ногами» (Амфора, 2008; участие в переводе), роман Гильермо Кабрера Инфанте «Три грустных тигра» (Издательство Ивана Лимбаха, 2014; организаторские функции) и проч. С 2021 года ведет авторскую колонку на сайте «Ваши новости» и в «Литературной газете».
Художественная проза публиковалась в журналах «Звезда», «Волга», «Вокруг света» и др., а также в нескольких коллективных сборниках («Петербург нуар», «Четыре шага от войны», «Русские дети», «Русские женщины», «Крым, я люблю тебя», «Как мы пишем» и др.). Рассказы переводились на английский, немецкий, итальянский, турецкий, китайский и проч. языки.
Автор книг: «Маша Регина» (СПб.: Лениздат, 2012; переиздания – 2013, 2017 гг.; лонг-лист премии «Русский Букер», лонг-лист премии «НОС», шорт-лист премии «Большая книга»; роман переведен на английский, французский, арабский языки), «Комната страха» (М.: АСТ, 2015; лонг-лист премии «НОС»), «Мой секс» (М.: Городец, 2021; в соавторстве с И. Левенталь).
Публикации в Журнальном зале.
Книги в интернет-магазине Лабиринт.
– Очень интересно, когда и как вы приняли решение стать писателем? Вы помните этот момент? Или период? Что и кто повлиял на это?
– Не уверен, что «стать писателем» – это те самые слова, которые тут уместны. Не помню, чтобы мне когда-то хотелось быть человеком, который сидит в жюри премий или, наоборот, на сцене, как попугай, которого сейчас то ли назначат, то ли не назначат самым красивым. Сидит на презентациях, подписывает книги, сидит на круглых столах, мямлит что-то, сидит дает интервью, пытаясь понять, не выглядит ли он по-идиотски, вообще все время сидит, сидит, сидит. Думаю, мне скорее всегда хотелось что-то написать – такое, чтоб мурашки по коже. Механизм тут очень простой. Когда в детстве читаешь много книг, а вокруг тебя девяностые с их подувшими ветрами свободы, которые принесли с собой в основном запах гниющего мусора и зассанных подъездов, – хочется в конце концов, как Алиса, шагнуть по ту сторону страницы. Ну и можно, конечно, играть в ролевые игры, но все-таки самый радикальный способ сделать это – это писать самому. Да и я не уверен, что бытие писателем это то же самое, что написать, в приподнятом состоянии или когда жена сильно взбесила, несколько страниц, которые, пожалуй, и самому кажутся ничего.
– Какая тема и проблематика вам близка более всего? Есть формула, какое процентное соотношение культуры, религии, политики, любви и прочего должно быть в тексте?
Меня как-то пугают люди, которые садятся писать с мыслью, что вот надо бы написать на такую-то тему или осветить такую-то проблематику. Однажды мне случилось брать интервью у Битова, и он сказал, что писатель – это такой человек, который ничего не знает и, может быть, узнает что-то, пока пишет. Мне такой подход ближе. В моем случае, думаю, все чаще начинается с завороженности каким-то образом или, может быть, музыкой какой-то фразы. Или мне хочется решить какую-то формальную задачу, поиграть с каким-то приемом, или примерить костюмчик какого-нибудь автора из понравившихся. Может быть, все это сразу. Наверное, тут есть что-то от лицедейства. По ходу дела в это во все неизбежно вплетается то, что тебя сейчас волнует, о чем ты думаешь, как же иначе.
– Кто из классиков определил ваши взгляды и почему? Кто близок из современников?
Не думаю, чтобы какая-то художественная литература определила мои взгляды. Я люблю Набокова, примерно как купаться в жаркий день, но когда с его клыков капает яд по адресу Маркса с Фрейдом, мне становится неловко. В детстве я любил Достоевского, а потом полюбил Толстого, но ни восторженный христианский мистицизм, ни суровый христианский рационализм мне как-то не близки. Я скорее буду думать о мире на языке Хайдеггера и Лакана, Жижека и Фуко, как бы они ни были вроде бы далеки друг от друга, а все любимое в диапазоне от Бокаччо до Гоголя и от аббата де Прево до Кортасара – оно не для того чтобы определять взгляды, скорее наоборот. Из современников мне ближе всего Крусанов с Носовым: для них литература это прежде всего праздник, игра, волшебство – ну и для меня тоже.
– Кто ваш любимый герой или герои?
Видимо, на Филфаке в какой-то момент сам собой отмирает тот читатель внутри тебя, который был в состоянии относиться к героям художественной литературы как к живым людям, любить или не любить их. Я влюбляюсь не в героя, а в способ рассказывать, в манеру строить фразу, в писательскую оптику – всякие такие вещи.
– Как вы выстраиваете свой «путь» в литературе? Что нужно обходить стороной и к чему двигаться?
Наверное, тут бы лучше спросить у того, кто выстраивает свой путь в литературе, я этого никогда не умел и всегда с некоторой долей восхищения смотрел что на молдавских пиарщиков, которые нахваливают свое творчество, как итальянскую плитку на распродаже, что на московских карьеристок, которые всегда знают, какую именно нужно в этом сезоне принять позу мудрости, чтобы понравиться на собеседовании. Глядя на них на всех мне хочется сойти с дороги к ближайшему «хачмагу», взять маленькую и отправиться с ней под мост.
– Ваше мнение про погоню за лайками и просмотрами в сетях? Ведь их количество не всегда означает качество материала. Нужно ли адаптировать сложные тексты под массовую культуру? Или искать своего читателя?
Боюсь, и тут я не большой эксперт. Порой мне кажется, что наша всемирная соцсеть – это что-то вроде вселенского публичного дома: улыбайся, будь непосредственной, сними корону, ну – и клиенты будут чаще тебя выбирать. В благодушные минуты я утешаю себя тем, что соцсети – это ведь всего лишь среда, экосистема, и в ней есть место и зубастым пираньям, и меланхоличным придонным сомикам. Не возьму на себя ответственность говорить, что нужно, а что не нужно делать. Могу только сказать, что моя любимая Фигль-Мигль наоборот изо всех сил расставляет для неподготовленного читателя таблички «Не влезай – убьет!», и я ее прекрасно понимаю. Читатель не гриб, чтобы его искать. А если гриб, то, наверное, пусть лучше растет где рос.
– Что для вас самое классное при написании текстов?
В лучшие моменты ты начинаешь как бы жить в двух мирах – в своем привычном и еще в каком-то, про который в двух словах не расскажешь. Кроличья нора, часы из жилетного кармана, улыбка без кота, вот это вот все. Даже больше начинаешь жить именно в этом мире – и забываешь, зачем ты зашел в банк и когда последний раз ел. Ну и тот мир, само собой, лучше этого, даже если сочиняешь про маньяка-педофила в мире зомби-апокалипсиса (гм, идея).
– Ваши личные инсайты в творчестве – про форму, содержание или иное?
Не знаю, правильно ли я понял вопрос, если имеется в виду вопрос про курицу и яйцо, то в той субатомарной тьме, откуда рождается текстик, едва ли можно разглядеть, волна это или все-таки частица. А когда он только-только проклевывается из этой тьмы на свет, на этом проростке уже всегда сразу две семядоли.
– Что больше всего вдохновляет, не связанное с работой?
Дружеская пирушка, легкий флирт с красоткой, покататься на велосипеде по паркам Пушкина и Павловска, отправиться пожить месяцок в чужие дивные края – что еще нужно для счастья.
– Что будет после постмодернизма, ваша версия?
Будет долгий период варварства, новые темные века, как всегда бывает после краха империи, обнимающей всю ойкумену. Искусство читать что-то сложнее и изысканнее треда в твиттере будет доступно немногим затворникам, художественный язык Саши Соколова, Ильянена, Гальперина, Стрижака придется учить, как латынь. Ну а потом все эти тексты откопают, и начнется возрождение. Правда, для этого нужна Византия. Тут, кстати, Бродский не вполне прав. Греки не то чтобы не сохранили свою соху – они ее просто после катастрофы 1453 года эвакуировали в Италию.
– Если бы была возможность переписать финал какого-то известного произведения, то куда бы вы вмешались и почему?
Не уверен, можно ли вообще поставить так вопрос. Если в тексте нужно переписывать финал, то есть если вообще возникает такая идея, то про такой текст, может быть, и помнить-то смысла нет. Не возникает же при виде кошки мысль, что неплохо бы заменить ей хвост на крокодилий. Или смотришь такой на лес и думаешь: лучше бы он заканчивался не опушкой, а горной расселиной. Произведение духа, если оно чего-то стоит, гармонично и самодостаточно, как явление природы. Не в смысле: прекрасно, а в смысле — естественно, как будто всегда вот тут такое и росло.

Василий Авченко – журналист, прозаик. Автор документального романа «Правый руль» (2009, Ad Marginem), беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока» (Ad Marginem, 2012), фантастической киноповести «Владивосток-3000» (2011, «Астрель»-Terra Fantastica, в соавторстве с музыкантом Ильёй Лагутенко), книги «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» (2015, Редакция Елены Шубиной – АСТ), биографии «Фадеев» в серии «Жизнь замечательных людей» (2017, «Молодая гвардия»), романа «Штормовое предупреждение» (в соавторстве с писателем Андреем Рубановым, «Молодая гвардия», 2019), документальных книг «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке» (в соавторстве с филологом Алексеем Коровашко, Редакция Елены Шубиной – АСТ, 2019), «Дальний Восток: иероглиф пространства» (Редакция Елены Шубиной – АСТ, 2021), «Очарованные странники. Литературные первопроходцы Дальнего Востока» («Молодая гвардия», серия ЖЗЛ, 2021). Финалист «Большой книги», «Национального бестселлера», «НОСа», Бунинской премии. Печатался в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Знамя» и других.
Публикации в Журнальном зале.
– Очень интересно, когда и как вы приняли решение стать писателем? Вы помните этот момент? Или период? Что и кто повлиял на это?
– Решения и «момента» не было, было увлечение литературой и жизнью, потом пришло желание превратить часть жизни в литературу. Я окончил журфак, работал в газете, вёл в том числе автомобильную рубрику и понял, что вся эта тематика – ввоз подержанных праворульных машин из Японии на наш Дальний Восток – выходит далеко за пределы и собственно автомобилей, и газетного формата. Я хотел бы прочесть книгу о том, как эти «праворульки» изменили образ жизни нашего Владивостока. Как вчерашние военные, учёные, инженеры, лишившиеся в начале 1990-х кто работы, кто зарплаты, переключились на новое для себя занятие. Но никто этой книги не писал – пришлось писать мне, и получился документальный роман «Правый руль», который я отправил – совершенно наобум – в издательство Ad Marginem, и вдруг Михаил Котомин с Александром Ивановым решили его издать. Так всё и началось. А потом, видимо, в привычку вошло.
– Какая тема и проблематика вам близка более всего? Есть формула, какое процентное соотношение культуры, религии, политики, любви и прочего должно быть в тексте?
– Никогда не задумывался над формулой и соотношением. Как, собственно, и в приготовлении пищи. Готовлю до готовности, да и всё. Книги разные, жанры разные, темы разные, задачи разные – формулы могут быть разными. Мне лично ближе всего то, что ближе даже рубашки к телу: окружающая жизнь, Дальний Восток, люди, море, тайга, настоящее, прошлое… Другим ближе другие темы, формы и приёмы. Пишу документальную прозу – и в этом определении для меня равно важны и первое слово, и второе. Мне хочется, чтобы вещь, созданная на фактическом материале, была написана с применением инструментария, свойственного художественной прозе, когда важно не только «что», но и «как».
– Кто из классиков определил ваши взгляды и почему? Кто близок из современников?
– Не знаю, «определил» ли, не задумывался… Повлияли, конечно, многие, как повлиял воздух, как физико-химические параметры атмосферы и земной коры влияют на наши облик и поведение… От Гоголя и Достоевского до Пришвина и Шукшина, можно ещё десятки фамилий называть. Ремарк с Хемингуэем и Генри Миллером. Андрей Битов. Лимонов, конечно. Но чтобы прямо «определили» или тем более вызвали желание кому-то подражать – нет, не сказал бы. Из современников интересны многие. Прилепин, Садулаев, Рубанов, Сенчин, Юзефович, Данилов, Елизаров… Восхищён биографическими исследованиями Льва Данилкина. Эссеистикой Михаила Трофименкова. Роман Кузнецова-Тулянина «Язычник» очень впечатлил. «Заххок» Владимира Медведева. Да много ещё кто и что.
– Кто ваш любимый герой или герои?
– В чём-то Мартин Иден (да и сам Джек Лондон). Дерсу Узала, «дикарь» и таёжный мудрец, охотник и эколог, гармоничный человек не прошлого, но будущего. Лётчик Покрышкин – и герой войны, и трижды Герой Советского Союза, и герой литературный, в которого он превратил себя сам, написав прекрасные мемуары. Сандро из Чегема. Куваевский коллективный герой. Гайдаровский – тоже коллективный…
– Как вы выстраиваете свой «путь» в литературе? Что нужно обходить стороной и к чему двигаться?
– Не знаю, вроде бы ничего специально не выстраиваю. Пишу, потом предлагаю написанное для публикации. Может, интуитивно что-то и выстраивается, но не рефлексирую на этот счёт. Что нужно? Не знаю. Быть последовательным и честным. Не дешевить, не продаваться. Отрастить известную броню, чтобы чужое мнение имело, конечно, значение, но не решающее.
– Ваше мнение про погоню за лайками и просмотрами в сетях? Ведь их количество не всегда означает качество материала. Нужно ли адаптировать сложные тексты под массовую культуру? Или искать своего читателя?
– Могут быть тексты и простые, и сложные, пусть расцветает сто цветов, пусть каждая книга найдёт своего читателя, а каждый читатель – свою книгу. Когда пишу, для меня важно только то, чтобы это было важно и интересно лично для меня. Тогда, может быть, и ещё кому-то это окажется интересным – по крайней мере, надеюсь на это. А писать, заранее подлаживаясь под какую-то конкретную аудиторию, угадывая её запросы… Нет, не моё. Хотя, конечно, как говорил тот же Шукшин, «не кричи в пустом зале». Всё равно текст, каким бы он прекрасным ни был, не живёт без читателя. Он должен быть понятным читателю. Но это вовсе не значит, что – упрощённым. Лайки лайками, есть и удары ниже пояса, есть темы, которые сами по себе гарантируют определённое количество лайков… Это, конечно, критерий, но далеко не единственный и прямо с качеством текста связанный очень слабо. Есть прекрасные авторы и тексты, которые по определению не массовые. Есть, напротив, тексты примитивные, но набирающие облако лайков. Так всегда было – в той или иной форме. Конечно, внимание аудитории приятно, но не советовал бы садиться на иглу лайков, как и вообще на любую иглу. Собственно, всё уже давно сказано за нас: «Поэт! не дорожи любовию народной…».
– Что для вас самое классное при написании текстов?
– Когда смог точно сформулировать какое-то неуловимое ощущение, найти слова для того, для чего найти слова сложно. Когда чувствуешь, что текст в чём-то больше тебя. Когда сумел вместить максимум смысла в минимум слов. Когда понимаешь, что повторить сделанное не смог бы. Когда видишь, как из словесно-мысленно-эмоционального расплава или раствора вырастает нечто кристаллическое, чёткое, внятное.
– Ваши личные инсайты в творчестве – про форму, содержание или иное?
– Конечно, какие-то маленькие открытия порой совершаются, вроде бы случайно, по мере работы над текстом. В этом смысле не нужно спешить. Это для газеты можно написать стремительно. А что-то более серьёзное... Можно тоже писать стремительно, когда в голове вспыхивают замысел и какие-то повороты, сразу их зафиксировать, чтобы не забыть своё сиюминутное состояние, не потерять каких-то нюансов. Но не советовал бы спешить ставить точку, лучше перечитать и переписать раз, другой, третий, четвёртый, ещё подумать, ещё покопать... Это всегда тексту только на пользу, по-моему.
– Что больше всего вдохновляет, не связанное с работой?
– Если под работой мы подразумеваем литературные занятия, то с этой работой оказывается связано всё, вся жизнь. Писатель – он всегда на работе, всегда думает, впитывает, созерцает, обобщает, какая-то внутренняя работа идёт постоянно. А так… Наверное, всё традиционно. Близкие люди. Общение, выпивание и закусывание с друзьями. Море. Или махнуть куда-нибудь на Колыму, подальше и похолоднее.
– Что будет после постмодернизма, ваша версия?
– Понятия не имею. Да то же и будет, что всегда. Не совсем понимаю, где ещё не постмодернизм, а где уже он. Допустим, у Гоголя порой, по-моему, чистой воды постмодернизм – тот же «Нос». Поздний Шукшин – абсолютный постмодернизм. В той или иной форме, наверное, будут и этот «–изм», и ещё много разных «–измов». Пусть теоретики-литературоведы размышляют, делают выводы и прогнозы. Не думаю, что кто-то рассуждает в таком ключе: напишу-ка я что-то постмодернистское или, напротив, соцреалистическое… Гоголю, по-моему, всё равно, «пост–» он или не «пост–».
– Если бы была возможность переписать финал какого-то известного произведения, то куда бы вы вмешались и почему?

Матвей Раздельный – поэт, публицист и литературный критик. С 2019 года в качестве публициста и литературного критика активно сотрудничает с изданиями «Свободная Пресса», ИА «Regnum», «Ваши Новости», газетой «Культура» и др. В 2020 году принял участие в проекте «Скорая культурная помощь», проведённом Общероссийским народным фронтом и книжным сервисом «ЛитРес» в рамках проекта «Добровольцы культуры». В 2020 году был одним из кураторов литературной «Мастерской Захара Прилепина». В 2021 году принял участие в проекте «Русский академический журнал» на портале «Pechorin.net», где обозревал толстожурнальную периодику. В 2022 году вошёл в состав Большого Жюри литературной премии «Национальный бестселлер».
Публикации в Журнальном зале.
Обзоры периодических изданий на портале Pechorin.net.
Рецензии Большого жюри Премии «Национальный бестселлер» (2022).
– Очень интересно, когда и как вы приняли решение стать поэтом? Вы помните этот момент? Или период? Что и кто повлиял на это?
– Решения стать кем бы то ни было я, пожалуй, не принимал. Мало того, поэтом или писателем я вряд ли имею право именоваться. Я придумал самоопределение – литератор широкого профиля. Я, да, сочиняю стихи, да, пишу художественную прозу (надеюсь, что до истечения возраста 27 лет успею завершить свой дебютный маленький роман), но наиболее заметен в публичном пространстве, безусловно, как литературный критик и публицист.
Писателем я, однако, мечтал стать с детства. Когда меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту, я неизменно отвечал, что дворником, который сочиняет романы (я представлял, что стану обладателем крохотной уютной дворницкой, а неизобретательная физическая работа с одной стороны позволит держать мышцы в тонусе, а с другой – не будет отвлекать мозг от литературного труда).
Повлияли, вероятно, мои родители: мама читала вслух произведения Астрид Линдгрен и Эриха Кестнера и водила нас с братом в детскую библиотеку под названием «Почиграйка», но более всего мне нравилось посещать вместе с отцом взрослую библиотеку, ибо я никогда не ощущал себя ребёнком и обожал книги потолще, со шрифтом помельче и без картинок (помню библиотечный полностью удовлетворяющий перечисленным требованиям томик «Похождений бравого солдата Швейка…» Ярослава Гашека, с тактильно-обонятельного знакомства с которым, я думаю, и началась моя тотальная любовь к литературе).
Я понимал, что за маленькими буквами, как правило, скрываются большие умные головы и горячие сердца, способные, в том числе, поменять мир, и я хотел быть как они, как эти великие создатели чудодейственных и вкусно пахнущих бумажных кирпичей.
– Какая тема и проблематика вам близка более всего? Есть формула, какое процентное соотношение культуры, религии, политики, любви и прочего должно быть в тексте?
– Меня в первую очередь интересуют Россия, многонациональный русский мир, а также социально-политическое устройство разнообразных уголков планеты, ну, и такой, знаете ли, достоевского-вампиловский подкожный психологизм – прорабатывание тонких, хрупких межличностных отношений.
Формулы, разумеется, никакой не существует, но я люблю варево из всего того, о чём вы сказали.
– Кто из классиков определил ваши взгляды и почему? Кто близок из современников?
– Не думаю, что кто-то определил мои взгляды, скорее, я со своими уже имеющимися взглядами наткнулся, как это обычно бывает, на тех, кто смог мне их внятно сформулировать, то есть правильными словами выразить то, что с рождения и так лежало на душе.
Это, конечно, Ф.М. Достоевский, Л.М. Леонов, Э.В. Лимонов, А.А. Проханов.
Из современников (хотя Проханов, дай ему Бог здоровья, тоже современник, да и Лимонову я успел руку пожать, да и три дня я существовал на этом свете при живом Леонове) – «человек и пароход» Захар Прилепин, которого я счастлив называть теперь своим другом, а лет 12 назад был настолько его фанатом, что ездил в Нижний Новгород специально, чтобы найти дом, где он жил, и просто постоять во дворе, который описан в «Грехе» и «Патологиях».
Захар – абсолютный, стопроцентный правопреемник указанного мной выше квартета.
Ещё я люблю, например, Андрея Рубанова, Сергея Шаргунова, Михаила Елизарова, Германа Садулаева, Михаила Тарковского.
Люблю также Александра Терехова, Леонида Юзефовича и Алексея Иванова, но полагаю, что с ними взгляды у нас заметно расходятся.
– Кто ваш любимый герой или герои?
– Смотря что мы подразумеваем под словом «любимый».
Если мы говорим о том, кто мне интересен в качестве, скажем так, «подопытного кролика», человеческого механизма, в коем любопытно разбираться, то я могу назвать любого персонажа из линейки Шекспир – Лермонтов – Достоевский – Леонов: Гамлет, Макбет, Печорин, Раскольников, Свидригайлов, Мышкин, Ставрогин, Матвей Лоскутов.
Если мы говорим о некоем примере для подражания, то я, пожалуй, вспомню Тимура Гараева из гайдаровской повести «Тимур и его команда», которую я перечитывал раз тридцать.
Если же мы говорим о том, кто из героев мировой литературы, на мой взгляд, более всего на меня походит (или на кого похожу я), то я предположу, что это Константин Левин из «Анны Карениной» и, возможно, безымянный герой «Голода» Кнута Гамсуна.
Мы трое диковаты, рычим (Левин обладает львиной долей характеристик Льва Толстого, а мы с «голодающим», которого Кнут Гамсун писал с себя, Львы по знаку зодиака) и постоянно ведём внутренний изматывающий диалог с самими собой о морали и нравственности.
По временам – занудствуем.
– Как вы выстраиваете свой «путь» в литературе? Что нужно обходить стороной и к чему двигаться?
– Я никак не выстраиваю свой «путь». Думаю, что именно это – выстраивание «пути» – и следует обходить стороной. А двигаться нужно к правде и чистоте.
– Ваше мнение про погоню за лайками и просмотрами в сетях? Ведь их количество не всегда означает качество материала. Нужно ли адаптировать сложные тексты под массовую культуру? Или искать своего читателя?
– Лайки и просмотры поднимают настроение, но не более того.
Надо отдавать себе отчёт в том, что лёгкое и пошлое всегда будет популярнее сложного и сделанного со вкусом.
При этом я убеждён, что если ты пишешь сложно не потому, что желаешь выпендриться, а потому, что иначе не можешь выразить сокровенную мысль, то ты способен увлечь и расположить к себе даже и неподготовленного читателя.
И он поставит тебе, рано или поздно, свой лайк.
– Что для вас самое классное при написании текстов?
– Разумеется, осознание того, что у тебя получается тот или иной текст. Но это бывает редко.
– Ваши личные инсайты в творчестве – про форму, содержание или иное?
– Возможно, я неверно истолкую вопрос, но отвечу так: я за примат содержания над формой. Стилистом можешь ты не быть, но психологом-социологом-антропологом-философом быть обязан. Впрочем, если ты ещё плюс к этому умеешь из слов фейерверки запускать, я только за.
– Что больше всего вдохновляет, не связанное с работой?
– Вера в Бога, любовь к стране, любовь к женщине, любовь женщины.
– Что будет после постмодернизма, ваша версия?
– Я думаю, что постмодернизм давно уже устарел.
Причём устарел он не только в либеральном своём изводе (пелевинско-сорокинском), но и в реваншистско-патриотическом (елизаровско-садулаевском).
То есть он, хотя и поставляя нам периодически талантливо сделанные книги, не является генеральным направлением.
Поэтому никакого «после постмодернизма» не существует.
Будет всё то же, что было «до» и «во время»: будут и эксперименты, будут и живые, огромные, горячие, перекраивающие континенты и изменяющие химический состав от тропосферы до экзосферы романы.
– Если бы была возможность переписать финал какого-то известного произведения, то куда бы вы вмешались и почему?
– В хороших произведениях всё на месте, потому они и хорошие, и переписывать их глупо.
В плохих – надо переписывать не только финал.
Вмешаться я последние восемь лет хотел только в то, что происходило на Украине, а Путин, которого я безмерно уважаю, придумал, как это сделать.
Я надеюсь, что ему удастся переписать финал отправленного в заокеанское издательство условного бестселлера «Американская Украина», сочинённого коллективным Западом.
Мы денацифицируем братский народ и – обнимемся с ним, искренне и крепко.
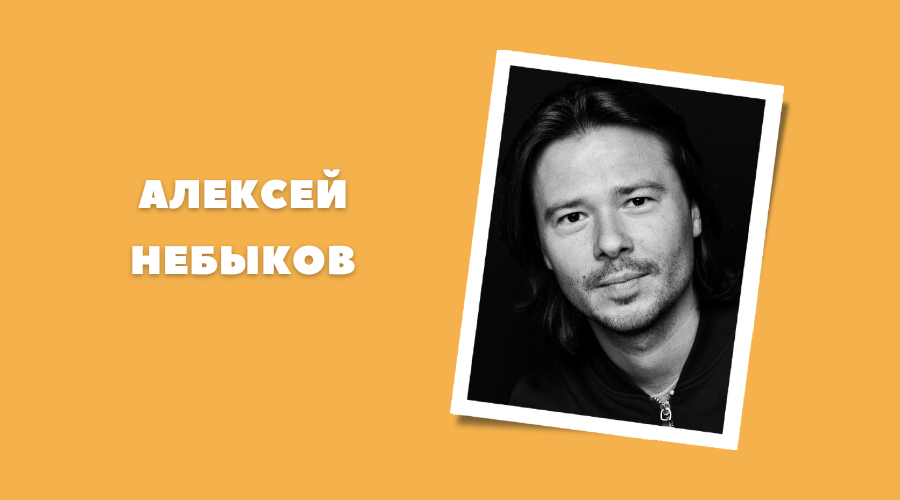
Алексей Небыков – русский прозаик, просветитель, юрист и предприниматель. Член Московской городской организации СПР. Основатель и главный редактор портала «Pechorin.net». В 2021 году входил в состав номинаторов Литературной премии «Национальный бестселлер». Создатель проекта обозрений периодических изданий «Русский академический журнал». Инициатор и руководитель литературных экспедиций по восхождению на высочайшие вершины частей света в память о великих русских писателях: восхождение на Килиманджаро (5895) в честь Михаила Юрьевича Лермонтова в 2019 году и на Эльбрус (5642) в честь Федора Михайловича Достоевского в 2021 году. Экспедиция на Эльбрус номинирована на конкурс профессионального мастерства «Ревизор-2022» как «Событие года».
Окончил Московский Государственный Юридический Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и ВЛК Литературного Института имени А.М. Горького. Обучается в аспирантуре Литинститута.
Финалист Международной премии имени Фазиля Искандера (2018). Публикуется в литературных журналах «Роман-газета», «Нева», «Москва», «Аврора», «Бельские просторы», «Крым», «Петровский Мост», «Турист», Литературной газете, альманахе «Литературные знакомства», в других печатных изданиях, на страницах интернет-порталов «Лиterraтура», «ГодЛитературы.РФ», «Pechorin.net», сайта Литературного института им. А.М. Горького. Публиковался в сборнике рассказов «Реальный магизм» (2019, Московский союз литераторов, ред. и сост. Людмила Вязмитинова, среди авторов: Вадим Месяц, Евгения Некрасова, Александра Николаенко и другие известные писатели).
Публикации в Журнальном зале и в Журнальном мире.
Проза в журнале «Москва» и в журнале «Роман-газета».
– Очень интересно, когда и как вы приняли решение стать писателем? Вы помните этот момент? Или период? Что и кто повлиял на это?
По первой профессии я юрист. Занимаясь бизнесом в области права, я так или иначе работал со словом – в суде, в ходе претензионной работы и т.д. А интерес к слову художественному сформировался уже в осознанном возрасте – после института и реализации в основной профессии. В какой-то момент появилась это неуловимая творческая потребность высказаться, увлечь других собственными мирами, прикоснуться к извечному.
Я записался на курсы в Литинститут для расширения, как думал тогда, собственного культурного кругозора. Но там кроме теоретической части предлагались и практические занятия, и по заданию кураторов нужно было написать произведения прозы и поэзии. Так появились мои первые (не школьные) рассказы и поэтические переводы. Тексты получили отклик, и это вдохновило меня, сильно поменяло жизнь, сформировало новые неотделимые теперь увлечения. Сегодня я активно участвую в литературном процессе, помогаю другим авторам в продвижении и, конечно, пишу сам.
– Какая тема и проблематика вам близка более всего?
Я не могу сказать, что есть какая-то определенная (моя) проблематика в творчестве. Чаще всего, что-то внутри увлекает меня, подсказывает сюжет и тему. А далее я додумываю, вынашиваю все это, начинается старательная работа, и в конце концов получается текст.
Говорят, что в моих рассказах мистика живет рядом с реальностью, что мне удается погрузить читателя в атмосферу ужаса. Может быть, страхи и есть моя тема?.. Хотя я всегда пишу о жизни и смерти (как бы это обыденно не звучало), стараюсь избегать проходных, неважных тем, уделяю много внимания тому, что было сказано до меня о предмете повествования, смотрю как с подобной историей работали предшественники, как обходятся современники.
Коллеги рекомендуют писать о собственном опыте, недоступном никому кроме тебя, а еще отзываться в творчестве о событиях сегодняшнего дня. Я с ними, в общем, согласен. Вот только для первого нужно «жизнь прожить», а для второго – действительно увлеченно «болеть» темой, иначе получится фальшиво и неискренно.
– Кто из классиков определил ваши взгляды и почему? Кто близок из современников?
В какой-то мере действительно можно сказать, что взгляды и художественный вкус формируются произведениями классической литературы. Хотя другой раз читаешь тексты современных авторов и не можешь понять, как это могло быть написано после Чехова, Толстого, Достоевского. Кроме упомянутых классиков хочется назвать Бунина, Ремизова, Грина, Некрасова, Лермонтова и Есенина. У двух последних люблю не только поэзию, но и удивительную по глубине прозу. Из иностранных авторов с удовольствием перечитываю Бальзака, Гюго, Диккенса, нравится тщательность Хейли, умение работать с необъятной формой Драйзера, строгость и энигматичность Хемингуэйя.
Из современных авторов назову: Прилепина, Рубанова, Елизарова, Некрасову, Погодину-Кузмину, Самсонова, Иванова, Пелевина, Сорокина… Много еще можно перечислять имен.
Часто делаю большие для себя открытия, читая толстые литературные журналы, которые не только представляют современную литературу в ее высокой традиции, но и являются некими заслонами от повсеместной агрессии в отношении нашей культуры, языка, образа мыслей. Кроме того, в них публикуется глубинная, региональная литература, отличная от той, которую нам предлагают маркетологи главных в стране издательств и обслуживающие их литературные критики…
– Кто ваш любимый герой или герои?
Григорий Печорин. Роман «Герой нашего времени», невозможный по глубине, бесконечный по смыслам, – одно из самых сильных моих читательских потрясений. Всю жизнь мне хотелось иметь некую сопричастность к этому произведению, и эта привязанность в конце концов реализовалась в одноименном литературном портале «Печорин.нет». Сегодня проект предлагает авторам содействие в творческой реализации. Ведь каждый из нас хочет быть услышанным, испытывает растерянность, сомневается в своих произведениях, а мы даем ответы на вопросы, рассказываем о талантах, помогаем сделать выбор. И вот писатель уже готов совершить следующий шаг. Как и Печорин, он увлеченно желает напоить свою страсть, обрести себя в этом мире, финал у каждого будет свой, но мы радуемся любой истории успеха…
– Как вы выстраиваете свой «путь» в литературе? Что нужно обходить стороной и к чему двигаться?
Перед писателем всегда очень много дорог, возможностей. Нужно устремляться по всем направлениям, пробовать различное. Участвуйте в конкурсах, посещайте литературные школы, заводите знакомства с литераторами, обращайтесь к специалистам портала «Печорин.нет», направляйте тексты в сетевые и печатные издания. Главное – проявлять активность, тогда придет понимание того, что происходит на литературном поле, как двигаться дальше, чего избегать. У каждого свой неповторимый путь. Для себя, например, я выработал правило немасштабных целей. Решайте на своем блистательном творческом пути небольшие задачи. Так приходят удовлетворение от писательства и уверенность в себе. Очень сложно сразу «взять» главную в стране литературную премию, но опубликоваться в толстом журнале, попасть на семинар к известному писателю, получить отзыв заметного критика – по силам любому из нас…
Но самое главное, это, конечно, создание произведений словесного искусства. Недавно с коллегами обсуждали критерии художественности, в соответствии с которыми те или иные произведения становятся произведениями литературы. Выявили такие: лексическая свобода (отсутствие штампов, собственный язык), конструктивный уровень текста (сложность и точность сюжетной конструкции – логика, мотивация, отсутствие ментальных штампов), степень актуальности и сложности авторской сверхзадачи (в том числе отсутствие самоповторений), а еще талант, удача и этические убеждения. От себя бы еще добавил желание перечитывать произведения, если сохраняется возможность черпать раз за разом в книге смыслы и эмоции, то перед вами произведение искусства.
Таким образом, всегда должна присутствовать серьезная работа с текстом, каждый раз мы должны стремиться превзойти самого себя. А еще можно и нужно пробовать в творчестве что-то новое, экспериментировать. До тех пор пока не утвердишься в чем-то тебе не подходящем или наоборот свойственном.
Так, например, в работе по написанию сценариев я не вижу большой художественной силы, это для меня скорее некий механический процесс, от которого не получаешь удовольствия, но с другой стороны, это и возможный доход, и счастье от воплощения на кино- или театральной сценах. И тут опять каждый выбирает сам… Еще за собой замечал, что публицистика портит художественный язык в прозе, поэтому с какого-то времени перестал писать статьи, но это моя, собственная особенность, а кто-то уверенно совмещает…
– Ваше мнение про погоню за лайками и просмотрами в сетях? Ведь их количество не всегда означает качество материала. Нужно ли адаптировать сложные тексты под массовую культуру? Или искать своего читателя?
Социальные сети – обязательная часть жизни писателя. Сегодня – это и средство общения с аудиторией, и основной способ узнавания. А еще блоговый и клиповый формат соцсетей влияет на формы искусства. Теперь никто не будет смотреть долгие недвижимые планы в кино (как у Бондарчука старшего), читать крупные по форме произведения (даже критики портала порой отказываются брать на разбор романы, превышающие 15 авторских листов). Современная среда очень влияет на нас, и ее нужно знать, а потому все писатели присутствуют в социальных сетях. Есть конечно крайние случаи писателей-затворников, Пелевина или Елизарова например. Но здесь отсутствие информации об авторах наоборот вызывает повышенный интерес к книгам.
А перед аудиторией, полагаю, не стоит заискивать или пытаться как-то манипулировать ей. Думаю, нужно быть честным, самим собой. И пусть с вами останутся только те, кому вы интересны, в конце концов, это сохранит вам время для творчества.
Что касается адаптации текстов ко вкусам общества. У нас писатель номер один в стране (согласно данным о продажах) – американский русофоб, пишущий страшилки. Примитивный, непритязательный язык, короткие предложения, одноразовые страшные истории. Вот его идеальная формула. Если кому-то близко подобное творчество, то почему не создавать такие произведения?.. Пиши, если тебе интересно. Другое дело, что жанровые (в худшем смысле) произведения быстро забываются, к ним не возвращаешься, они не приводят к открытиям… Это как популярная музыка, которая быстро надоедает и которую никогда не сможешь слушать сразу после концерта академической музыки в консерватории.
– Что для вас самое классное при написании текстов?
Ощущение выполненной работы. Когда собран материал, выстроена структура, написан черновик, проведена редактура, готов итоговый текст, получены первые и профессиональные оценки и, наконец, вышла публикация.
– Ваши личные инсайты в творчестве – про форму, содержание или иное?
Писателям могу посоветовать искать любую возможность для обогащения творческого опыта – путешествуйте, получайте знания, приобретайте навыки, совершайте поступки. Из всех этих вещей затем рождается художественная магия.
Нужно очень много читать – и классику, и современных авторов, и литературные журналы.
А еще очень важно нести ответственность за свой текст. Вам не должно быть за него стыдно, вы должны быть уверены, что смело поставите книгу в свою библиотеку, дадите прочитать своим детям. Я, например, поэтому считаю недопустимым использовать в художественных текстах мат, веду борьбу с этой пагубной в литературе тенденцией, в собственных проектах всегда настаиваю на вымарывании или замене, но эта история для отдельного подробного разговора…
– Что больше всего вдохновляет, не связанное с работой?
Наверное возможность побыть наедине с собой, отвлечься от бесконечной суеты, замедлить течение времени, когда можешь уделить минуты самому себе: почитать книгу, сходить на спорт, отправиться в горы.
Еще люблю собирать книги, наполнять домашнюю библиотеку, разыскивать собрания, делать учет, перестановки. Большое удовольствие подписать прочитанную книгу у автора, обсудить детали ее создания, а потом поставить на полку...
– Что будет после постмодернизма, ваша версия?
Любая вещь дойдя до предела оборачивается противоположностью. Полагаю, эксперименты закончатся и к нам вернется реализм, возможно с некой фантастической компонентой.
– Если бы была возможность переписать финал какого-то известного произведения, то куда бы вы вмешались и почему?
Переписывать финалы известных произведений – затея неудачная. Можно писать продолжения, особенно если история тебя захватила, и ты чувствуешь невыносимую потребность в этом. Но все равно такое произведение будет вторичным… Есть ли тогда в этом смысл? Если только такая своеобразная физкультура…
Другое дело, недописанные нашими классиками произведения. Заимствование основы из них, переложение на современный лад могут дать очень интересные результаты. Ведь в этих задумках, неоконченных текстах содержится колоссальный творческий заряд, некое великое начало, от которого может заискриться мысль…




