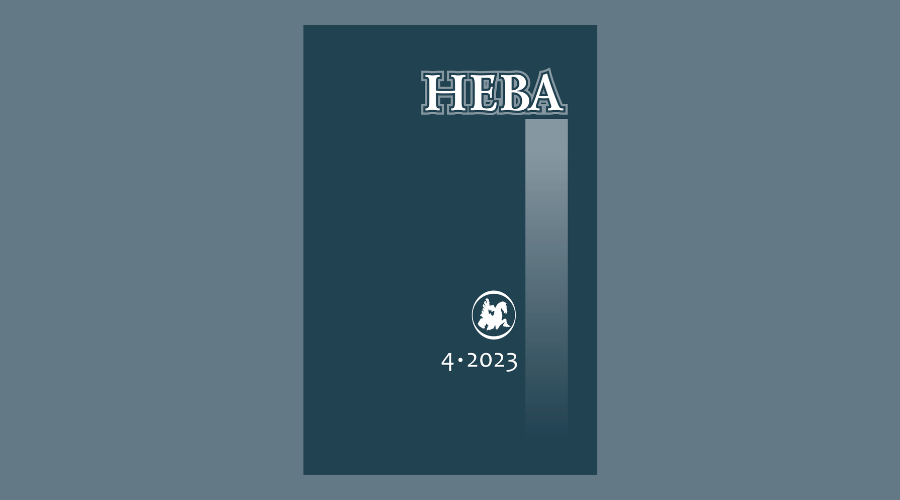«Нева» № 4, 2023
Литературный журнал «Нева» издаётся в Санкт-Петербурге с 1955 года. Периодичность 12 раз в год. Тираж 1500 экз. Печатает прозу, поэзию, публицистику, литературную критику и переводы. В журнале публиковались Михаил Зощенко, Михаил Шолохов, Вениамин Каверин, Лидия Чуковская, Лев Гумилев, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Фёдор Абрамов, Виктор Конецкий, братья Стругацкие, Владимир Дудинцев, Василь Быков и многие другие.
Главный редактор — Наталья Гранцева, зам. главного редактора - Александр Мелихов, шеф-редактор гуманитарных проектов - Игорь Сухих, шеф-редактор молодежных проектов - Ольга Малышкина, редактор-библиограф - Елена Зиновьева, редактор-координатор - Наталия Ламонт, дизайн обложки - А. Панкевич, макет - С. Былачева, корректор - Е. Рогозина, верстка - Д. Зенченко.
«Всё, что не тайна, – вздор!..». Петербург – город-загадка
«Нева» – литературно-художественный и научно-публицистический журнал академического уровня. В смысловом центре журнала – не столько география, сколько метафизика Петербурга. Сочетание геометрической правильности и таинственности, присущее городу на Неве мыслимо и без привязки к географическим реалиям Петербурга. Сама вселенная устроена разумно и таинственно – вот о чём неустанно свидетельствуют публикации журнала «Нева».
Основные темы 4-го выпуска журнала «Нева» за 2023 год: любовь и семья (Антон Нечаев «Титай», рассказ, Александр Пономарёв «Глупый скворец», «Ценный сервиз», «Иван Иваныч», рассказы), советское прошлое: события и лица (Михаил Кураев «Человек у горизонта», эссе), Россия и Православие (Вячеслав Влащенко «Трагедия Катерины в драме А.Н. Островского «Гроза», статья, Архимандрит Августин (Никитин) «Петербургские храмы в записках иностранцев», историческая хроника) и др.
Начальная рубрика журнала называется «Проза и поэзия», что побуждает задуматься как о суровой прозе (выражение Пушкина), так и о её немного легкомысленной сестре – поэзии (тот же Пушкин сетовал на годы, которые гонят шалунью-рифму). Очевидно, что проза – это не просто стихи, освобождённые от рифм и размеров. Иначе нам пришлось бы встать на позицию мольеровского персонажа Журдена, который немало удивил человечество, простодушно провозгласив: «Мы все говорим прозой».
В текстовом корпусе «Невы» актуализируются чеховские традиции прозы, которые, в свою очередь, не лишены некоторой парадоксальности, до сих пор способны удивлять читателя. Чехов – писатель-натуралист и врач по образованию, вопреки нашим ожиданиям был подчёркнуто склонен к иносказательности и более того, к символике. Она по контрасту являлась там, где эмпирическая реальность не была самодовлеющей и требовала высшего объяснения… Двигаясь по стопам Чехова, современные прозаики, публикуемые в «Неве», всё более склоняются к натурализму и одновременно – к признанию того, что имеется нечто над нашим житейским опытом.
Показателен цикл рассказов Александра Пономарёва. Не занимаясь школьным пересказом авторского сюжета, устремимся к тому, что витает над ним… В рассказе Пономарёва «Глупый скворец» описан заботливый отец, которого морально эксплуатирует несколько легкомысленная взбалмошная дочь. И хотя ум твердит отцу, что де баловать дочь не стоит, сердце оказывается сильнее ума…
И если отец предан житейским заботам о дочери, то та, со своей стороны, предана несколько легкомысленным эстетическим занятиям. Напрашивается параллель с басней Крылова «Стрекоза и Муравей». (Как мы все знаем, Стрекоза пела).
Наш современник – Александр Пономарёв – развивает Крылова в русле частичного оправдания Стрекозы. Мысль о том, что Крылов втайне одобряет Стрекозу, едва ли не впервые высказывал отечественный психолог Л.С. Выготский в своей книге «Психология искусства» (любое издание). Психолог усматривает у Крылова тайный яд, как бы разлитый в самом жанре басни, и подразумевающий весёлую насмешку над сухой моралью. Прав ли Л.С. Выготский – решать читателю, однако наш современник осмысляет вполне крыловскую, басенную ситуацию в русле Л.С. Выготского.
Художественное обаяние рассказа «Глупый скворец» определяет современный городской антураж в творчески органичном сочетании с вечными сущностями. И хотя в рассказе не говорится развёрнуто о Петербурге, в нём угадывается обстановка этого города – насколько рационального, настолько же и необъяснимого. Так, и у Александра Пономарёва почти басенная аллегория (рациональное начало) напрямую соседствует с показом таинственных изгибов человеческой психики (иррациональное начало).
В другом рассказе Александра Пономарёва «Ценный сервиз» действуют отчасти те же персонажи, что и в рассказе «Глупый скворец» – отец и дочь, которые находятся в сложных отношениях, но неизменно взаимосвязаны. Вновь выводя уже знакомых читателю персонажей на повествовательную сцену, автор получает возможность показать одних и тех же персонажей в различных ситуативных ракурсах. Писатель как бы заимствует у жизни её естественное разнообразие…
Сходный приём применяет французский классик Оноре де Бальзак, выводя в различных романах одного персонажа – честолюбивого молодого человека, которого зовут Люсьен де Рюбампре.
Так называемые сквозные персонажи встречаются и у нашего современника.
Смысл его рассказа «Ценный сервиз» (вполне по-чеховски) не вытекает из фабулы и сюжета. Стол и чайный сервиз выступают лишь как предметные детали, отсылающие читателя к более высоким смыслам и ценностям. В рассказе является глубокая – и несколько парадоксальная – психическая коллизия. Некие пожилые люди – бабушка и дедушка – несмотря на свои почтенные лета, подумывают о разводе. Примечателен не столько этот печальный курьёз, сколько его психологическая (и сердечная) мотивация. Люди, которые долго живут вместе, обнаруживают друг у друга те изъяны, которых не замечают при первых – романтических – встречах. Вопрос, разумеется, не только в достоинствах или недостатках, присущих ему или ей, – кто и по какой шкале возьмётся мерить эти плюсы и минусы? Итак, вопрос даже не в моральных оценках, а в тех несовпадениях между им и ею, которые выявляются лишь в результате долгой совместной жизни.
Однако по причудливой логике рассказа Александра Пономарёва и назревшие с годами конфликты по-своему становятся общим достоянием пожилых людей разного пола. В одной популярной эстрадной песне поётся «Мои года – моё богатство». Что такое года? Это жизненный опыт. Супружеские ссоры – это тоже жизненный опыт, который поневоле связывает людей, в принципе желающих развестись. В аналогичном смысле отец из предыдущего рассказа – «Глупый скворец» – не может оставить заботу о дочери, хотя и порицает её.
В рассказе Пономарёва семейная ссора, которую так некстати затевают престарелые супруги, является препятствием к общему семейному застолью. Оно, в свою очередь, художественно значимо не столько потому, что отец и дочь уж очень оголодали и хотят есть, сколько потому, что застолье – наряду с ценным сервизом, упомянутым в заглавии, – есть своего рода символ родового гнезда, куда устремляются отец и дочь – своего рода люди-скворцы.
Третий рассказ Пономарёва – «Иван Иваныч» – и по сюжету, и по системе персонажей не связан с предыдущими двумя рассказами.
Лейтмотив рассказа – источник, который многие люди считают целебным, в результате чего источник воспринимается многими в ажиотированном ключе и приобретает некую небывалую популярность…
Сюжет развивается в русле иронического детектива, но смысл рассказа как бы витает над его сюжетом и не привязан к действию.
Поскольку мы живём на земле, мы нередко ищем в религии и просим у Бога решения своих житейских проблем, тогда как Церковь существует для спасения души (хотя религиозного табу на молитвы об избавлении от житейских нужд всё же не существует, просто приоритетными в Церкви являются иные, высшие попечения), – вот о чём написан рассказ Пономарёва «Иван Иваныч».
В рубрику «Проза и поэзия» включён также рассказ Антона Нечаева «Титай». Сюжетная канва рассказа этически парадоксальна. Его и её (имя Титай дал ей герой, не расслышав настоящего имени) поначалу сводит постыдный торг, используем выражение Пушкина из его стихов «Прелестнице», однако мало-помалу между ним и ею зарождается истинное чувство…
Рассказ заканчивается трагически. Причём трагическая развязка произведения мотивирована не сюжетно, а метафизически. В мире купли-продажи, заложниками которого являются он и она, нет место истинному чувству. И счастье, которое, казалось бы, было возможным, не осуществляется.
С немалой художественной силой и яркой натуралистической достоверностью Нечаев описывает тот мир, где главенствуют выгода и торг. И хотя прямой причинно-следственной связи между сферой коммерции и миром любви в рассказе нет, как говорят, окольные пути иногда являются самыми краткими. Проводя своего рода художественное исследование, автор проникновенно показывает, как косвенные причины приводят героев к необратимой катастрофе.
Рассказ, написанный о любви, содержит и латентную критику общества потребления. Автору, который идёт путём контрастного сопряжения личной и политэкономической сферы, невозможно отказать в художественном остроумии.
Текстовый корпус и смысловое поле журнала «Нева» показывают: литературоведческие исследования, которые сопутствуют в журнале собственно художественной литературе, не просто прилагаются к ней, но дополняют и проясняют её, носят характер мастер-класса для современных поэтов и прозаиков. Примечательна в частности литературоведческая публикация Вячеслава Влащенко «Трагедия Катерины в драме А.Н. Островского «Гроза». Примечательна редакционная помета: «К 200-летию А.Н. Островского». Имеется также редакционное пояснение, отсылающее читателя к предшествующему выпуску журнала: «Статья вторая».
На классическом материале литературовед Влащенко вослед писателю Нечаеву рассуждает о судьбе глубоко падшей, но сохранившей идеальные признаки женщине. Внося в литературоведческое исследование ярко выраженную религиозно-этическую компоненту, Влащенко утверждает, что Катерина погрязла в языческих страстях. По мысли Влащенко она должна была бы стать на путь церковного покаяния, чего она не сделала. Как утверждает литературный критик, Катерина, с размаху бросившись в водную пучину и там навеки сгинув, вступила в сонм русалок – инфернальных существ.
Влащенко убедителен в своей системе оценок. Однако он пишет о Катерине не столько как о литературном персонаже, сколько как о реальном человеке. Если же прочитать драму Островского исходя из системы персонажей (а не из личных качеств героини Островского), выяснится, что Катерина обнаруживает самоотверженное противостояние некоему косному большинству – и едва ли она может быть истолкована исключительно как отрицательный персонаж драмы.
В аналогичном смысле и героиня одноимённого рассказа нашего современника – «Титай» – едва ли может быть однозначно и безоговорочно подвергнута религиозной анафеме. В то же время Влащенко абсолютно корректен и точен в рамках своей методологии. Просто в силу многозначности (а точнее, бездонности) истинно художественного текста различные посылки приводят к различным умозаключениям.
В самом деле, если воспринять Катерину не в качестве человека, а в качестве литературного персонажа, возникнет повод говорить о том, что социум стяжателей, живущих домостроевской моралью, привёл к смерти Катерины. В таком случае она выступает христианской жертвой людского лицемерия, а не русалкой и язычницей.
Сходную судьбу переживает и Титай – героиня одноимённого произведения нашего современника.
В ценностном и смысловом отношении к рассказу Антона Нечаева примыкает рассказ Эвелины Азаевой «Усталость металла». Как и у многих других авторов «Невы», у Азаевой мысль не привязана напрямую к сюжету. И безотносительно к действию рассказа автор замечает (с. 117): «В девяностые годы российские «демократические» газеты всегда выступали на стороне тех, кто был против русских».
Главная мысль рассказа сконцентрирована в его финале и как бы передана одному из центральных персонажей – Лидии. Её жизненный опыт побуждает её заключить (с. 121):
«Усталость – это когда постоянное напряжение меняют свойства металла, и он разрушается. А русские, они разве меняются? Нет. Выходит, этой стали свойственна выносливость металла.
А значит, «ино еще побредем»…».
С рассказом Азаевой перекликается историческая публицистика журнала. Так, неприятию девяностых в рассказе Азаевой отчётливо параллельна (хотя и далеко не равнозначна) ностальгия по Советскому союзу. Она косвенно, но узнаваемо прослеживается в мемуарах Михаила Кураева «Человек у горизонта». Предаваясь воспоминаниям о выдающемся человеке – режиссёре Козинцеве, – Кураев достоверно излагает документальные факты и одновременно блещет парадоксами.
Так, он (несколько даже извиняясь перед читателем за неизбежный трюизм) постулирует, что личная судьба Козинцева неотъемлема от исторической судьбы «Ленфильма». Однако позволив читателю с собой безоговорочно согласиться, Кураев – редкий мастер парадокса! – тут же изящно опровергает себя. Он пишет, что Козинцев был существом двойственным. С одной стороны, он был своим в среде «Ленфильма», с другой – был далёким от цеховой рутины «Ленфильма» небожителем, общался с такими полубогами, как Эренбург, Шостакович, Альтман, Мейерхольд, Пастернак.
Упомянув ряд выдающихся деятелей искусства, Михаил Кураев задаётся вопросом, преследовала ли их Советская власть. И снова даёт несколько неожиданный и парадоксальный ответ (с. 166): «…Но Маяковский и был Советская власть, Эйзенштейн и был Советская власть.
А кто кого защищал, когда травили Мейерхольда, Шостаковича, лишали работы Ветрова?»
По мысли Кураева все те, кто преследовал деятелей искусства, были не столько Советской властью, сколько чиновниками-канцеляристами.
Из слов Михаила Кураева реконструируется и то поле различных, но взаимосвязанных значений, которое он вкладывает в понятие «советский человек»: устремление к творческим новациям, открытость будущему и личная порядочность (интеллигентность).
Мемуары о Козинциве более всего интересны тем, что вызывают у читателя неизбежные вопросы: готов ли Кураев признать советским Есенина, поэта-традиционалиста, связанного с уходящей деревней? Относит ли Кураев к числу пострадавших за Советы Пастернака, вокруг которого разразился скандал в Союзе писателей? Разговор, начатый Михаилом Кураевым, неисчерпаем.
Поле вопросов не умаляет, а скорее усиливает познавательный интерес мемуаров Михаила Кураева. Они проясняют многое и в судьбе Козинцева, и в профессионально-цеховой работе «Ленфильма».
В публицистике и прозе журнала отчётливо прослеживается советское ретро. Так, в мемуарной прозе Александра Мелихова «Уроки аристократизма». Автор пишет о трагических годах Советской власти, в частности – о послевоенной разрухе. В мемуарах Меликова реальные факты, реальные исторические обстоятельства остроумно связываются с общим представлением автора о превратности и коловратности судьбы, имеющим благородно архаические корни. Таким образом, историческое время в мемуарной прозе Мелихова сопровождают некие вневременные константы.
К ним относится и аристократизм – высокое качество личности, которое чаще всего проявляется вопреки обстоятельствам. Узнать о том, что такое аристократизм, можно прочитав публикацию Мелихова.
Публикации Александра Мелихова параллельна публикация Елены Зиновьевой. Она являет собой рецензию на книгу: Олег Немировский. Драгоценные россыпи воспоминаний: Биографические заметки. СПб.: Реноме, 2022.
Если в прозе Мелихова человеческая судьба закономерна, несмотря на множество кажущихся случайностей, то в прозе Немировского человеческое существование включено в историю. По крайней мере, так считает Елена Зиновьева. Она пишет (с. 231): «Биографические заметки, органично перетекающие в историю семьи, историю страны».
В журнале также имеется рубрика «Вселенная детства», посвящённая, в том числе, феномену советского детства. Упреждая рассказ об этой рубрике, невозможно не упомянуть, что в ней публикуются авторы, которые пишут не столько для детей, сколько о детях – разница принципиальная! Дети и детство выступают в восприятии взрослых писателей. Поэтому рубрика «Вселенная детства» фактически продолжает рубрику «Проза и поэзия», во всяком случае, ту её подрубрику, которая связана напрямую с прозой.
В своих рассказах «Дачи» и «Атос» Мария Бушуева обнаруживает виртуозное мастерство сюжета: развязки её произведений и творчески непредсказуемы, и творчески органичны.
Завязка рассказа «Дачи» содержит сентиментально-ностальгическую ноту, непосредственно связанную с советским прошлым. Герои рассказа – дети – коротают дни в ухоженном посёлке для номенклатурных работников. В рассказе со вкусом и знанием дела воссоздана историческая обстановка советского периода.
И вот взрослые отлучаются из дома. Они ушли надолго, и у детей начинается тревога. Внезапно в дверь дачи кто-то стучит, что, разумеется, усиливает тревогу детей. У них возникает два предположения: или грабители или призрак. Поскольку посёлок для привилегированных людей основательно охраняется, грабителям взяться неоткуда, и дети опасаются встречи с призраком.
Развязка рассказа ошеломляет своей неожиданностью. Это не грабители и не призрак и даже не хозяева дачи, явившиеся неожиданно рано. Кто и почему потревожил детей на даче, можно узнать, дочитав рассказ до конца. Заранее догадаться, какова его развязка, практически невозможно. Однако она убедительна и показательна для советского времени.
Второй рассказ Бушуевой – «Атос» – содержит в своём сюжете любовный треугольник. Вот почему приходится говорить, что дети – это как бы маленькие взрослые, способные пережить всё, что случается и со взрослыми.
Итак, в некую красавицу школьницу влюблён трогательно неуклюжий школьник. Она, со своей стороны, как можно догадаться, предпочитает другого школьника, физически более крепкого и более уверенного в себе.
Однако любовное соперничество продолжается, точки над i не стоят, и вот по ходу любовной интриги девочка даёт своему мало удачливому обожателю задание, опасное для его жизни. Если он успешно пройдёт любовное испытание, возможно, счастье ему улыбнётся.
Согласился ли растерянный школьник выполнить нечто для него смертельно опасное и как впоследствии повела себя школьница, – обо всём этом можно узнать, прочитав рассказ. Автор ведёт читателя непредсказуемыми, но психологически (и сердечно) убедительными путями от интригующей завязки к неожиданной развязке.
В текстовом корпусе журнала произведения Бушуевой названы рассказами, однако они содержат и новеллистические признаки: скрытые за сюжетом вопросно-ответные конструкции и главное, мотивированно неожиданные развязки.
Далее в рубрике «Вселенная детства» следует рассказ Людмилы Брагиной «Исцеляющая сила». В рассказе Брагиной психологически глубоко и психологически точно – во всех перипетиях – воссоздана женская дружба. Главные героини произведения – две подруги.
Параллельно в рассказе фигурирует некий алкоголик, которого подруги хотят наказать за пьянство. Однако роль этого алкоголика в смысловой структуре рассказа не является первостепенной. Он – человек банальный.
Тем не менее, в рассказе Брагиной «Исцеляющая сила» имеется этическое упреждение двум подругам (и очевидно, людям вообще): творить суд и расправу, хотя бы и над агрессивным алкоголиком, не стоит, потому что можно невольно переусердствовать. Всё-таки суд над другим человеком принадлежит не человеку, а Богу.
Прозу журнала контрастно дополняет поэзия, причём проза и поэзия различаются не только по формальным признакам (наличие или отсутствие рифмы, размера и др.), но и по типам авторского мироощущения. У поэта оно одно, у прозаика другое.
Если проза в текстовом корпусе журнала направлена от частного к общему, от житейского факта – к иносказанию и символу (например, семья как родовое гнездо), то поэзия, напротив, ориентирована от общего к частному.
4-й выпуск «Невы» открывается подборкой стихов Владимира Рецептера. Как свидетельствует биографическая справка, Рецептер – признанная знаменитость, а не просто высокоталантливый автор. Так, в журнале сообщается, что автор подборки – руководитель Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге (1992 года) и театра «Пушкинская школа».
Таким образом, развёрнуто не упоминая Пушкина как персоналию, Рецептер фактически заявляет о себе как поэт-пушкинист. В амплуа пушкиниста он выступает не столько на тематическом уровне, сколько на уровне поэтики.
Наш современник через века наследует пушкинскую ясность, которую сопровождает умеренная доля парадоксальности. Недаром ясный классик, чьё изваяние горделиво высится на Тверском бульваре в Москве, провозгласил «И Гений – парадоксов друг».
Совокупность приёмов, унаследованных у классика и переиначенных на современный лад, Рецептер использует для развёртывания религиозной темы. Причём она является в своего рода проекции на повседневный опыт человека.
Поэт пишет (с. 3):
полоснут по глазам.
Елейной гладкости противостоит реальный опыт восприимчивого сердца, которым наделён поэт. И тем не менее, несколько парадоксально, эстетический и житейский опыт поэта приобретает религиозный смысл. Поэт, пережив некий эстетический искус, возвращается к Богу (там же):
Тебя, Иисус Христос.
Христос противостоит псевдорелигиозной елейности, а поэт приходит от своего рода романтического бунтарства к религиозному прозрению.
В другом религиозном стихотворении Рецептера художественным языком говорится о том, что тишина, родственная христианскому смирению, внутренне мощнее тех житейских борений, которые Пушкин в «Поэте и Толпе» связывает с людской корыстью.
Неявно, но узнаваемо вторя Пушкину, наш современник пишет (с. 6):
к Вечной Троице прожитый шаг...
Смыслоразличительные троеточия Владимира Рецептера как бы отсылают читателя от слова к одухотворённой тишине. «Я скромно возлюбил святую тишину», – пишет Пушкин в стихотворении «Царское село».
Вослед Пушкину, некогда воспевшему острый парадокс, наш современник, говоря с читателем на этически ответственные темы, избегает прямого морализирования. Подчас он скорее ставит вопрос, нежели решает его.
Так, например, задаваясь вопросом о внешнем сходстве и внутреннем различии между ложью и артистизмом, поэт пишет (с. 5):
крушенье человека, гибель, смерть?..
Гамлетовские по своей сути вопросительные знаки у Рецептера вторят многоточиям и наряду с ними выражают отказ поэта от прямого высказывания. Ведь окольный путь к истине иногда наиболее верен. Правда и ложь у Рецептера борются меж собой в смысловом поле вечного гамлетовского вопроса «Быть или не быть?».
Наряду с религиозной и философской лирикой Владимир Рецептер отдаёт дань и распространившейся в XX веке – прежде всего, у Есенина и Цветаевой – традиции воспевания деревьев как особых антропоморфных существ.
Так, в одном из стихотворений Рецептера описано как урбанистическая среда (нечто мертвящее) внутренне запирает, неволит деревья (нечто живое).
Поэт готов возопить к Богу (с. 4):
что суше листьев и ветвей…
Будучи противопоставлены мнимым людям, деревья как бы оживают и уподобляются людям в истинном смысле.
В другом стихотворении Рецептера недосягаемая высота древесных крон воссоздана почти религиозно. Поэт пишет (с. 5):
не боясь пилы.
В финале произведения снова обыгрывается высота (там же):
для усталых ног!..»
Деревья у Рецептера подчас обнаруживают и некоторое превосходство над человеком.
В наш век активных поисков в сфере верлибра Владимир Рецептер позиционирует себя как традиционалист и сторонник силлабо-тоники едва ли не пушкинского образца. И однако, будучи традиционалистом-радикалом, Рецептер избегает высоких банальностей и общих мест. Он не использует банальных рифм – таких, как любовь-кровь или камень-пламень, навязших в ушах у русскоязычного читателя, он использует изысканный синтаксис, изобличающий в авторе литературную искушённость, и главное, он тяготеет к ясности и одновременно – к некоторой парадоксальности.
Таким образом, эстетическое кредо Владимира Рецептера – быть современным и вместе с тем – традиционным.
Сходными дорогами в поэзии следует Артык Ховалыг. В журнале опубликованы её Тувинские сонеты в переводе Николая Переяслова. К сонетной подборке Ховалыг прилагается послесловие переводчика. Он пишет о Тувинских сонетах как особой литературной форме. Также в послесловии к стихам Ховалыг говорится о том, что она следует не столько протоптанными дорогами любовной лирики, сколько непроторенными путями философической поэзии.
У Ховалыг присутствует волнующая также Рецептера этическая тема правды и лжи. В стихотворении «Не давай себя обмануть» она пишет (с. 154):
Коварных вралей и лжецов…
Однако если у Рецептера преобладает вопросительная интонация, у Ховалыг доминирует утвердительная интонация, идущая по нарастающей (там же):
Терзают край родной послушный.
Некоторые стихи Артык Ховалыг напоминают заклятия. В стихотворении «Воля и сила» поэт адресует своеобразному собирательному адресату некий императив (с. 152):
Пути тебе судьба открыла!
В отличие от Рецептера, Ховалыг не избегает дидактики, она не столько ставит этические вопросы, сколько утверждает этические истины. Однако её поэтическая живопись риторически колоритна и художественно привлекательна.
В стихотворении «За всё благодари» Артык Ховалыг пишет (с. 155):
Ты всех за всё всегда благодари!
В своих стихах Артык Ховалыг эстетически преображает старые как мир нравственные истины. Она подчас проста, но всегда изыскана, как изыскана и жанровая форма Тувинского сонета, о которой пишет Николай Переяслов.
Если Рецептер –и не в меньшей степени – Ховалыг тяготеют к нравственно-философскому серьёзу, то Роман Круглов, автор ещё одной стихотворной подборки, опубликованной в журнале, культивирует поэтическую вольность и фривольную шалость.
Поэт пишет (с. 106):
И четверых произвела на свет…
Далее на несколько игривый итальянский лад говорится о том, что благополучно женатого мужчину подчас увлекает некая кокетливо ускользающая красота (там же):
Вот почему мы любим идеал…
Мысль автора несколько парадоксальна: эротическая двусмысленность родственна устремлению к идеалу в его, казалось бы, незыблемости.
Двусмысленная игра и нерушимая ясность суть те составляющие поэзии Круглова, которые сопутствуют его взгляду на Петербург.
Поэт пишет (с. 108):
И становится чем-то иным.
Поэт являет современный Петербург – с узбеками – на контрастном фоне истории. Этот вечный Петербург поэзии Круглова подчас является и там, где отсутствуют географические реалии, связанные с жизнедеятельностью этого детища Петра. Так, поэт пишет (с. 108):
Созвездия росы в соцветиях висят…
Однако за лирической прозрачностью природы угадываются вечная игра и тайна. Иногда она доходит почти до гротеска, до неправдоподобия (там же):
Вся суть которой в том, что он не человек.
Примечателен авторский оксюморон, родственный духу Петербурга. Подобно неназванному граду Петра человек – этот поэтический двойник черёмухи – светел, но от того не менее непонятен.
Роман Круглов – играющий поэт, Петербург двоящийся – и тоже играющий – город.
Он же – не только причудливо иносказательно, но также вполне дословно присутствует и в подборке стихов Дмитрия Зиновьева.
В стихотворении «Сказочка» он пишет (с. 81):
езжу зайцем вопреки.
Примечательна не только поэтическая шалость, но и родственный ей плясовой хорей – размер пушкинских «Бесов».
Надо сказать, что он связан также с семантикой пушкинского Петербурга. В «Онегине» Пушкин называет сей город неугомонным.
Ритмом Петровской столицы у нашего современника проникнуты и её пригороды: мчится электричка и всё вокруг несётся едва ли не в бесовской пляске. Являются и прозрачные пушкинские аллюзии, которые перекликаются с аллюзиями петербургскими. Перед читателями являются колоритные пригороды (там же):
неземной кордебалет.
Солнце-сосны – намеренно неточная рифма. Поэт рифмует не столько звуки, сколько смыслы как таковые. Так, солнце – небесное светило – по смыслу увязано с соснами, которые растут на земле, но тянутся к небу. В совокупности весь рифмуемый комплекс лексем – эти двуединые солнце-сосны определяют сказку петербургских пригородов – таких мест, про которые трудно сказать, где они расположены – на земле или на небе.
Параллельный оксюморон в стихах Зиновьева – это небывалая динамика пригорода – мчащийся поезд – и одновременно – его эпическое спокойствие: сосны, которые поэтически вечны и в этом смысле – недвижны.
В другом стихотворении о пригородах Петербурга поэт пишет (с. 80):
на дачу на дачу вперед
Авторский оксюморон – сочетание несочетаемого – зиждется на том, что дача подразумевает спокойствие и статику, контекстуальное сочетание электрички и дачи подразумевает представление о некоем динамическом спокойствии.
В шуточных стихах о компьютере и вообще о виртуальной реальности поэт пишет (с. 79):
новых стриммеров, хайтеров, геймеров
Идя по стопам Пушкина, который в «Онегине» упоминает новые слова – панталоны, фрак, жилет, – наш современник намеренно нагромождает новые слова, которые в русский язык принесла компьютерная эпоха.
Однако эстетически смакуя лексические новации, автор неукоснительно придерживается традиционной силлабо-тоники (в данном случае стихи написаны анапестом). Сочетание классического анапеста со специфически современной лексикой не случайно. Оно указывает на внутреннюю установку автора быть современным классиком – т.е. с одной стороны, принадлежать к мировой поэзии (которую по-своему символизирует классический размер), а с другой – отвлекаться на зов современности.
Другое дело, что классика в её двуедином существе – глубокий традиционализм и обжигающая современность – подразумевает не столько нынешние реалии, такие как компьютер и порождённая им терминология, сколько нерв эпохи – разница принципиальная!
Едва ли и сам автор стихов про компьютер стал бы категорически настаивать на том, что нынешняя поэзия должна быть до отказу наводнена компьютерными терминами. Однако Зиновьев нагромождает их в русле некоторой иронии и самоиронии.
Стихия игры, которая имеет высокий – классический – смысл, связана как с Петербургом, так и с Пушкиным – порхающим гением.
Он по-разному и, быть может, в разной степени творчески воодушевляет Рецептера, Зиновьева, Круглова. Особняком в стихотворной рубрике журнала стоит поэтическая подборка Андрея Дмитриева. Он продолжает не столько Пушкина, сколько Бродского. Бродский в русской поэзии – явление двуединое. С одной стороны, он фактически создал новый поэтический язык, который соответствует завершающей фазе минувшего столетия. И писать так, как будто бы Бродского не было, сейчас едва ли возможно. Упомянутого поэта можно как любить, так и не любить – но едва ли можно его не замечать или игнорировать (и захочется его игнорировать – вряд ли получится!). Уж очень он ярок и не похож на других поэтов.
С другой же стороны, вторя поэтической вселенной Бродского, трудно избегать эпигонства. Наш современник – Дмитриев – ведёт самостоятельный поиск, движется к самоопределению на поэтических путях и перепутьях, некогда проложенных Бродским – этим поэтическим исчадием Петербурга.
Дмитриев пишет (с. 123):
но без баланса хрупкого он рухнет.
Напоминает о Бродском у Дмитриева многое: во-первых, намеренно спотыкающаяся силлабо-тоника, которая вступает в своего рода противоборство с интонационно-синтаксическим рисунком стиха, во-вторых, тяготение к периодам – длинным предложениям, которые как бы не укладываются в рамки силлабо-тоники и, главное, быть может, сочетание лиризма с монументальной эстетикой. С одной стороны, некий хрупкий баланс, с другой – мир как крупное целое.
В противоположность общепонятному Евтушенко, с которым он вёл благородное поэтическое состязание, Бродский – поэт замысловатый. Наш современник переводит иногда мудрёные речевые ходы Бродского в почти басенную форму. Так, он описывает некое зоологическое кафе (с. 123):
в надежде наконец следы запутать.
Помимо речевой манеры, с Бродским нашего современника связывает тайна и метафизика Петербурга. Бродский некогда сказал: «На Васильевский остров / я приду умирать».
Наш современник, не упоминая петербургских топонимов, воспроизводит петербургскую жизненную обстановку: волка и волчицу сопровождает, с одной стороны, детектив – игра ума, а с другой – тайна и скрытность.
Однако в отличие от Бродского с его петляющим синтаксисом наш современник тяготеет всё же к простоте, родственной басне. Он чувствует себя житейски естественно в мире классической литературы.
Так, Дмитриев пишет (с. 126):
есть ли тут мальчик, или взяла вода?
С одной стороны, стихи Андрея Дмитриева житейски узнаваемы (пыльная маршрутка), с другой – элитарны и замысловаты, ориентированы на литературу. Едва ли широкому читателю точно и в деталях известен эпизод горьковской «Жизни Клима Самгина», на который прозрачно ссылается Дмитриев. (Речь идёт о мальчике, который утонул не без некоторой лукавой «помощи» своего сверстника).
На горьковском сюжетном материале Андрей Дмитриев снова возрождает константные черты поэзии Бродского. К ним относятся, во-первых, особый петербургский снобизм (упомянутый поэт не считал снобизм чем-то дурным и даже его культивировал как проявление здоровой взыскательности) и главное, во-вторых, радикальный отказ от китча в поэзии.
Свободу от китча Бродский наследует у Ахматовой – поэта, наделённого исключительным эстетическим вкусом. Внимательный читатель непременно заметит, что Бродский учился литературному мастерству не столько у Ахматовой, сколько у Роберта Фроста и Цветаевой, которую ставил выше Ахматовой. Да, это так, и Ахматовой пришлось проявить немало смирения ввиду того, что Бродский, который много общался с ней, практически не упомянул её в своей Нобелевской речи.
Но есть поэтика и есть культура – это разные вещи. Бродский перенимал у Ахматовой не столько её личную поэтику, сколько особую петербургскую культуру. Быть эпигоном поэта – возможно, но быть эпигоном целой литературной культуры (или в данном случае – целого города на Неве) – немыслимо и невозможно. Вот почему заимствуя у Бродского петербургскую культуру, Андрей Дмитриев избегает эпигонства – благодарно принимает и творчески самостоятельно разрабатывает то, что досталось ему в наследие от классиков XX века.
И если Рецептер, Круглов, Зиновьев – поэты «Невы» – суть литературные наследники пушкинского Петербурга, то Дмитриев – ещё один автор «Невы» – поэтически населяет Петербург Бродского и Ахматовой. Он замечателен тем, что в нём царит безупречный литературный вкус, и нет места китчу.
Среди поэтических подборок «Невы» особняком стоит публикация Владимира Алейникова «Только речь». Проза поэта».
Обращаясь к особой прозе Алейникова, мы вновь задаёмся вопросами: всё-таки что кроме размера и рифмы отличает поэзию от прозы и являются ли вообще рифма и размер обязательными признаками поэзии? На эти вопросы отвечает Алейников своей публикацией; знаменателен её подзаголовок: «Проза поэта».
Как минимум со времён Гегеля, если не ранее, эпос связывался с действием (например, Троянская война, некогда описанная Гомером), а лирика – со сферой чувств (например, личные откровения Архилоха, соперника Гомера). Однако современность вносит радикальные коррективы в эту простую бинарную схему, в которой эпос – это действия и характеры, а лирика – это чувства. Помимо действий и чувствований (выразимся именно так, на архаический лад) существует бытийная сфера. Быть или существовать – не значит напрямую действовать и не значит непременно предаваться эмоциям.
Вот эта бытийная сфера, вызвавшая к синтаксической жизни множество бытийных предложений, и порождает прозу поэта Алейникова. Такой тип повествования, в котором нет сюжета в прямом смысле, тяготеет к лирической прозе. В то же время он не нуждается в размерах и рифмах – их заменяет своего рода игра и живая ритмика всё тех же бытийных величин.
Вот показательный текстовый пример из Алейникова (с. 7): «…Осень моя незабвенная давнего шестьдесят третьего года, осень привольная, золотая, светом с небес залитая удивительно ясным, праздничным, волшебным, чистым, целебным…».
И метрическую форму стиха, и сюжетную форму прозы Владимиру Алейникову как бы заменяет своего рода поэтика эпитетов. Каждый из них содержит или подразумевает глагол-связку между подлежащим и сказуемым, например, формально мы можем перифразировать автора так: «Осень является незабвенной». Это «является» – глагол-связка не названа, но подразумеваема. Она-то и вытесняет сюжетное повествование, сближая прозу с поэзией, делая её бессюжетной.
Однако в прозе Алейникова имеются и яркие эпизоды, они связываются с тем кругом явлений, которые Ахматова некогда назвала тайнами ремесла. Речь идёт о личностных ценностях и личностных свойствах известных поэтов, с которыми Алейников встречался на своём веку, желал слышать их мнение о своих стихах в пору поиска и ученичества.
Так, в прозе Алейникова имеется колоритный эпизод, в котором Евтушенко не пускает юное дарование на порог своей квартиры, вежливо, но твёрдо и недвусмысленно выставляет Алейникова на лестничную клетку. Обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых, Евтушенко талантлив и в своём негостеприимном жесте (он остроумно и артистично мотивирует свою полную неготовность принять литературного гостя) и главное, во-вторых, такое, прямо скажем, эгоистическое поведение литературного светила было вызвано не столько личными качествами Евтушенко, сколько эпохой. Она порождала литературных полубогов, и если Евтушенко – наряду с Ахмадулиной и Вознесенским – собирал стадионы, это обстоятельство по-своему даже обязывало Евтушенко обнаруживать привередливость и странность – качества кумира многочисленной публики.
Не менее примечательно и описание встречи юного поэта с Вознесенским. Вознесенский оказался мягче Евтушенко и при встрече с Алейниковым высказал некоторые ценные (вернее бесценные!) суждения о поэзии (тайны ремесла).
Так, Вознесенский похвалил стихи Алейникова, однако, заметив, что рифмовать девочку и деревце уже не модно. Слова ещё одного признанного метра заслуживают особого комментария. «Пламень неминуемо тащит за собой камень» – некогда сетовал Пушкин на приевшиеся банальные рифмы, призывая русских поэтов к белому (нерифмованному) стиху («Путешествие из Москвы в Петербург»). И вот не прошло и полутора столетий, как в моду вошли намеренно неточные рифмы, они явились дабы преодолеть скучную гладкость банальных рифм – таких как пламень и камень (тем более что количество точных рифм в языке ограничено).
Однако со временем, считает Вознесенский, и творчески угловатые рифмы как бы стёрлись от частого употребления и перестали быть творчески неожиданными. Что же делать? Число звуков и даже созвучий в языке беднее, нежели в музыке, звуки и созвучия в поэзии быстро себя исчерпывают. Однако если повторяемые звуки присутствуют в неисчерпаемом поле смысла, то новой поэтической жизнью могут зажить и камень-пламень. Прав Вознесенский, не стоит литературно выпендриваться, ища намеренно неточных, творчески угловатых рифм. Они быстро надоедают читателю.
Помимо сказанного Вознесенский сообщил Алейникову много интересного.
Прозу поэта в «Неве» стоит почитать тем, кто знает цену бессюжетной прозе и живо интересуется тайнами поэтического ремесла.
В качестве академического издания «Нева» содержит публикации не только о советском прошлом, но и о стародавних временах, которые напрямую не связаны с нынешней злобой дня.
Так, в журнале помещена публикация Натальи Гранцевой «Абьюзер из Вероны». Публикация посвящена комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Автор попеременно задаётся двумя вопросами; первый из них – каковы биографические истоки итальянских аллюзий в комедии Шекспира? был ли он в Италии? Второй вопрос – каково место комедии в творчестве Шекспира-трагика?
На первый вопрос хочется ответить: ну и что? Пушкин не был в древней Греции, однако написал «Слышу умолкнувший звук / божественной эллинской речи». Всё-таки мироздание едино, и своей личностной интуицией великий человек, может постичь то, что происходит на другом конце света и/или в другую эпоху. Думается, был ли Шекспир в Италии, не так уж важно.
Зато второй вопрос видится обозревателю журнала, мало сказать, интересным – неисчерпаемым! Смех и трагедия по своей природе различны и взаимосвязаны. Так, в русской классической литературе существует юморист Антоша Чехонте, который перерос в высокого трагического Чехова. Как это произошло, вопрос неисчерпаемый. Ничуть не менее интересен аналогичный вопрос в применении к Шекспиру, гению Ренессанса – выдающемуся трагику, оставившему человечеству в наследие и несколько прелестных комедий.
Литературоведческая публикация Гранцевой о Шекспире включена в журнальную рубрику «Петербургский книговик», которая в свою очередь содержит подрубрику «Книжный остров». В ней помещены рецензии ранее упомянутой Елены Зиновьевой на недавно вышедшие книги, одна из них кратко обсуждалась выше. В той же рубрике размещена рецензия на следующую книгу: Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014–2022 годов/Составители А. Колобородов, З. Прилепин, О. Демидов, СПб.: Питер, 2023.
Книга уникальна тем, что её авторы – прямые свидетели и участники военных событий в современной Украине. Будучи основана на реальных событиях нашего времени, книга содержит и представление о вековечных устоях государственности, о России, не подвластной времени. Сочетание двух контрастных, но взаимосвязанных констант книги способствует зарождению в России новой поэзии, отображающей новую эпоху.
Далее в рубрике «Книжный остров» опубликована рецензия на следующую книгу: Андрей Беликов. Симеон Бекбулатович: пример адаптации выходцев с Востока в России XVI века. СПб.: Нестор-История, 2022.
Общепризнано то, что Симеон Бекбулатович некоторое время номинально находился на престоле, тогда как реальная власть была по-прежнему сосредоточена в руках Ивана Грозного. Однако в книге, как утверждает Елена Зиновьева, акцентируется не столько этот общеизвестный факт, сколько новые факты – прежде всего, утрата государственных полномочий, которая постигла Симеона Бекбулатовича после кончины Ивана Грозного и смены власти. Меж тем при Грозном Симеон переживал далеко не худшие времена и оставался в чести.
Почему Иван IV благоволил к Симеону Бекбулатовичу – вопрос таинственный и потому интересный.
Завершает 4-й выпуск журнала следующая публикация: Архимандрит Августин (Никитин). Петербургские храмы в записках иностранцев. Часть 4.
Публикация архимандрита Августина представляет собой фундаментальный академический труд, первые три части которого опубликованы в предыдущих выпусках журнала «Нева».
В журнале «Нева» читателю является своего рода идеальная проекция Петербурга. Что это значит на практике? Выше говорилось о том, что Петербург город геометрически правильный – умственный – и одновременно – мистический.
Эти качества – разумное устройство и неисчерпаемую тайну – заключает в себе не только Петербург, но и некие универсальные структуры – например, человек. На классической латыни он фигурирует как homo sapiens – человек разумный. Однако разумная компонента не мешает человеку одновременно нести в себе тайну, о которой неустанно рассуждал русский классик Достоевский, неразрывно связанный с Петербургом.
То, что можно заключить о человеке, – он и разумен, и необъясним – применимо и к самому Богу – Творцу человека. Божественный разум и Божественная тайна – суть различные, но взаимосвязанные начала нашей удивительной Вселенной.
В смысловом поле журнала «Нева» о высоких материях, которые присутствуют – и как бы витают – над человеком говорит поэзия. О самом человеке в его бедах и чаяньях, в его неудачах и обретениях говорит проза.
Публицистика «Невы» (а также литературоведческие публикации журнала) ориентированы на то, чтобы включить человека в историю. Бог-человек-история – вот универсальная триада, которая является читателю в смысловом поле журнала «Нева». Поэзия журнала исполнена идеальных устремлений, проза «Невы» – отчётливо антропна, публицистика журнала ориентирована на историю, уроки которой отнюдь не бесполезны как для современных авторов, так и для страждущего человечества в целом.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети