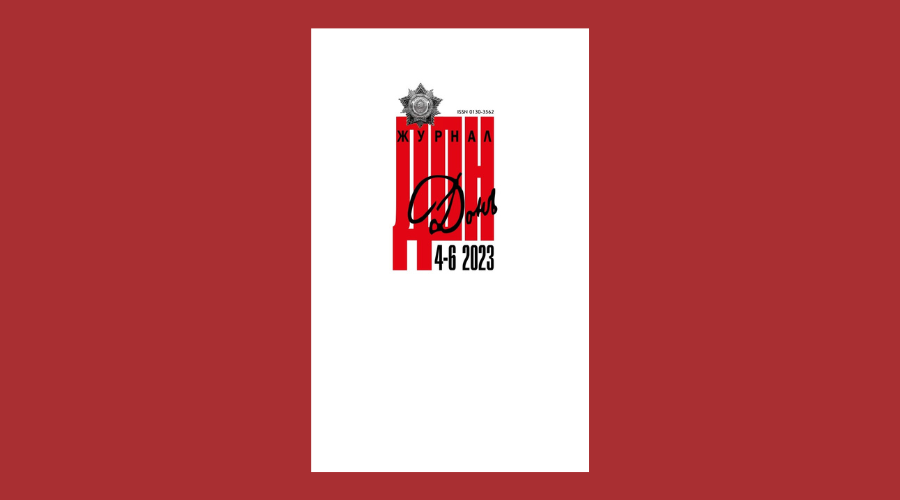«Дон» № 4-6, 2023
Российский ордена Дружбы народов литературно-художественный журнал «Дон» основан в апреле 1925 года по инициативе А. А. Фадеева. Название «Дон», предложенное М. А. Шолоховым после войны, имеет предшественников – «Лава», «На подъёме» и «Литературный Ростов».
Ныне красные буквы названия «Дон» на белом поле обложки журнала словно несут на себе начертанное пушкинской рукой слово «Донъ» – символ и смысл издания. У него богатая биография и легендарное имя, подкреплённое высоким уровнем художественности опубликованных произведений.
В журнале печатались В. Маяковский, А. Фадеев, М. Шолохов, С. Михалков, Р. Гамзатов, В. Кожинов, Ю. Кузнецов, В. Распутин, В. Белов, В. Крупин, Б. Можаев, А. Солженицын, А. Калинин, А. Софронов, Б. Примеров, А. Прасолов, Л. Васильева, Л. Аннинский, С. Куняев, В. Лихоносов, В. Личутин, Е. Евтушенко, М. Тарковский.
Своё предназначение издание видит в соединении двух веков отечественной литературы на родине Чехова и Шолохова. Публикуются авторы не только «от самых от окраин до Москвы», но и представлены наши соотечественники.
Слово «Дон» сродни удару колокола. Оно собирало и собирает людей, возвышает душу. Журнал стремится соответствовать высокому имени. Русская и советская классика – родники издания. Произведения современных авторов дают стремнинный ход журнальной реке.
«Дон» обрёл своё лицо, определяемое, прежде всего, достойными именами. Редакция стремится представлять добротную отечественную прозу и высокую поэзию, координируя в определённой степени литературный процесс и помогая новым талантам. Регулярными стали целевые номера, блоки авторов из разных мест, а также «Книги в журнале». На основе журнала создано книжное издательство.
Ранее «Дон» был органом различных писательских сообществ. Ныне это независимое издание, в редколлегию которого входят авторитетные писатели.
Главный редактор – Виктор Петров, поэт, лауреат Всероссийской литературной премии им. М. А. Шолохова и журнала «Юность», обладатель «Золотого Витязя».
Редколлегия:
Анатолий Аврутин (г. Минск), Владимир Алейников (п. Коктебель), Магомед Ахмедов (г. Махачкала), Владимир Боряринов (г. Москва), Андрей Воронцов (г. Москва), Наталья Калинина (х. Пухляковский), Владимир Крупин (г. Москва), Александр Нестругин (с. Петропавловка), Михаил Попов (г. Архангельск), Вячеслав Сухнев (г. Москва), Михаил Тарковский (с. Бахта), Аршак Тер-Маркарьян (г. Москва).
«Лица из прошлого, тени из сна…»
Прошлое, как известно, бывает очень разным, например, у бывших военных оно может скрывать мрачные тайны, как в повести Сергея Шумского. А вот для наследницы дореволюционного фабриканта Анны Андреевны былое, напротив, куда прекраснее грядущего – раздела ее дома и участка с предприимчивыми нуворишами (повесть Марии Бородиной). Чье-то советское детство, находящееся уже словно на другом конце временной Вселенной, было и счастливым, и опасным, как у поэтессы Светланы Леонтьевой, но точно не было пресным и однообразным. Да, кому-то коммунистическая власть принесла новую, вдохновляющую реальность, другие же, как персонажи повести священника Николая Толстикова, пожинали лишь страдания, незаслуженную жестокость и упадок. А вот предки героя Василия Килякова провели свою жизнь в таком заснеженном и глухом краю, где словно сама природа противилась человеку. И теперь внук смотрит с удивлением и скорбью на их невообразимый для современного глаза путь.
Читая этот номер, мы задумываемся о том, что любая власть, любое время – благо для одних и горе для других. И этот несправедливый, возможно, но незыблемый закон еще раз напоминает о неравенстве судеб и путей, о непредсказуемости жизни младенца. Вот он только родился и лежит в пеленах, еще ничего не сделал, но его будущее предопределено и его родителями, и его задатками, и даже географией и этносом. Лирическому герою Юрия Могутина выпала нелегкая доля сироты и босяка, появившегося на свет при отце народов и вдоволь наскитавшегося по миру. Иван Нечипорук родился в Горловке, и его малая родина определила его судьбу, в том числе и творческую – уже многие годы военная реальность разрушает мирные надежды обитателей охваченных огнем конфликта земель. Анатолию Аврутину трудно принять современные реалии запустевающих деревень: сложно сказать, было ли прошлое так прекрасно, как кажется, но очевидно, что мир стал другим, а вот человек подчас остался прежним. Алёна Новикова – чуть ли не единственный автор, обращающийся к будущему, и это отличает ее психологическую новеллу от общей тональности выпуска. Однако и ее работа – в каком-то смысле кривое отражение тех фантастических упований коммунистических 20-х, которые лелеяли феминизм, равные возможности для всех, универсальное общество и другие «свободы», на практике обернувшиеся цепями.
Как наиболее любопытные вещи я бы выделила повесть Марии Бородиной «Сотки» – чеховский, трифоновский, варламовский конфликт никогда не стареет, неважно, заброшенная усадьба ли это, квартира в центре или даже участочек в Купавне, и поэзию Натальи Перстнёвой. Это балладная, песенная лирика, во многом построенная на литературных формулах, но красивая и привносящая ноту романтики в номер. Оба эти автора в хорошем смысле традиционны, они как бы знакомы нам, но в то же время приятны возможностью увидеть по-новому забытый мотив. Бородина несколько иначе разыгрывает конфликт Чехова, хотя финал так же открыт, герои так же неоднозначны. Это уже мы, читатели, надеваем на них маски добра и зла. Перстнёва берет сюжеты, бытующие в культуре, и дает им личную интерпретацию.
Выпуск открывается подборкой известного белорусского поэта и заслуженного деятеля литературы Анатолия Аврутина. Философские стихи последних лет, объединенные в цикл «Вселенский предел», содержащие посвящение классику Ю.П. Кузнецову, повествуют о любви вопреки. Этот мотив, унаследованный от Кузнецова современной «почвенной» поэтессой Светланой Сырневой, у Аврутина смягчен. Да, судьба лирического героя в пустеющем краю деревень не была доброй, а то, что ждет его в будущем, – еще страшней, потому что наступает темное время. Его патриотические чувства раздваиваются: он любит страну своего детства вопреки всему плохому, а сейчас он готов без размышлений умереть за свой край, каким бы тот ни был, однако в его сердце смущение. На пороге зрелости он новым взглядом смотрит на ту реальность, в которой живет, а не на страну детства и юности – и только красота цветущего зеленого края все та же, иное переменилось.
***
«Я не помню, не помню тебя...»
Занимательная повесть ижевского писателя и журналиста Сергея Шумского «Два товарища» находится между криминальным жанром и приключенческой авантюрой. Это история о четырёх солдатах удачи – бывших военных-наемниках, немного контрабандистах, намного «решателях проблем», а ныне мечтателях о мирной жизни и оседлой трудовой деятельности. Коля и Иван, Сергей и Денис – настоящие мужчины с окраин бывшего СССР, все они достойные люди. Конечно, насколько вообще мы можем счесть уважаемыми профессии, рожденные перестройкой: перегонку мотоциклов, войны в африканских краях, «крышевание» бизнеса и транзит каннабиса. При желании можно найти в тексте социальную критику и скорбь о неизбежном падении нравов в трудные времена. Но по большому счету эта вещь ближе к «афганской прозе», то есть литературе, повествующей о приграничных конфликтах девяностых и сложной адаптации бывших солдат на гражданке. Несмотря на некоторую типизированность героев Шумского и преобладание экшн, отчего мы не столько погружаемся в характеры персонажей, сколько следим, как бы кого не убили, произведение привлекательно духоподъемной сюжетной линией. Жанр «афганской прозы» избыточно сентиментален, на всем протяжении депрессивен, финально трагичен – здесь этого нет. Герои Шумского не жертвы эпохи 90-х и не «боевые потери» нулевых, – они сами так решили, их пассионарная природа с юности направила их путем воина, а к финалу их осталось только двое.
Подборка журналиста, писателя и поэта Ивана Нечипорука родом из Горловки посвящена миру, расколотому боевыми действиями: уже почти десять лет малая родина автора находится в опасной зоне. И те жители, которые отказались от эвакуации, уже многие и многие годы живут в иной реальности, они уже забыли, когда просыпались не от звука стрельбы. Различные чувства переполняют их – это и мечты о возвращении к спокойной жизни, и желание мести за их разрушенные войной судьбы, одновременно порыв оставить места приграничного конфликта – и остаться и быть стойкими. Подборка поэта напоминает дневник: это дни жизни в когда-то цветущем и многоплодном крае, а ныне наполовину разрушенном, неузнаваемом месте. Нередки фольклорные мотивы: птица Рух, символ беды, над городом, предатель-Святополк в камышах, ниже течет Ахерон… Однако возникает чувство, что лирический герой – не солдат, находящийся на позициях, с рассуждением «на войне как на войне», а скорее мирный житель, для которого такое состояние мира не просто непривычно – к нему невозможно привыкнуть.
Муштрует нас и учит не сдаваться.
Подборка Светланы Леонтьевой из Нижнего Новгорода «Автобиография» рассказывает о ее жизненном пути – в основном о его радостях и победах, и это очень необычно. Поэзия Светланы Леонтьевой – особое, можно сказать, уникальное явление в современной литературе. Этому есть две причины – ее мажорная тональность и ее причудливая ритмика. Хотя этот поэт не очень известен и принадлежит к поколению бумеров, в отношении которых журнальный интерес приобретает инерционный характер, однако для исследователя такой феномен – золотая жилка. В советскую эпоху жаждущие публикаций авторы нередко трудились над «паровозом», то есть пытались создать духоподъемное, прославляющее достижения системы стихотворение, которое бы способствовало печати всей подборки. Но радостное видение мира органично для Леонтьевой, есть вещи, которые невозможно подделать, ее поэзия – гимн жизни во всем многообразии и сложности. Карнавальное, гиперболическое начало ее поэзии охватывает своим праздником весь окрестный мир – начиная с семьи лирической героини (ее детей, внуков, снохи) и заканчивая Мариенгофом, Кампанеллой, Янкой Дягилевой и Ярославной. Перед нами не только художественный, но и человеческий феномен, потому что творчество не есть лишь форма и языковые поиски – это также внутренний огонь, порожденный личностью.
и он сгорел, где другой нам такой же взять?
Вологодский священник Николай Толстиков в небольшой повести «Ильинка» рассказывает о печальных судьбах жителей провинциального городка от революции до хрущевских времен. Разнообразные пороки, но преимущественно алкоголизм и откровенная неправедность, приводят на кривую дорожку бывших крестьян и колхозников. Произведение проникнуто антикоммунистическим пафосом: для подпавших под влияние революционеров местных парней ничего не стоит расхитить церковное имущество или расправиться со священником. Хотя, справедливости ради, при любом режиме есть и достойные, и недостойные люди, но здесь только сохранившие в душе веру деревенские жители сумели вернуться к Богу в период хрущевской оттепели, когда позволили служить в некоторых храмах. Эпоха 20-х–50-х предстает в тексте мрачным, располагающим к несправедливости и беззаконию временем, когда прав сильный, власть имущий, а добро и смирение попираются. С одной стороны, такое разделение на «хороших» и «плохих», категоричность подпадают под канон соцреализма, где всегда были «наши» и «чужие». С другой же, динамическая, состоящая из рассказов о простой и горькой жизни история может предполагать рассказчика с такой позицией – не обязательно приписывать ее автору. Если обратить внимание на язык повести, то логично заметить: мы узнаём печальную летопись жизни семьи священника и местных «коммунистов» (безусловно, такие люди не делают чести никакому режиму) из уст пожилого человека из глубинки, не слишком тяготеющего к «литературному языку»: «Компаньоны прикинули-покумекали, и на тёплом приёме комиссия из путейских инженеров в дарёных караваях «хлеб-соли», к своему изумлению, обнаружила золотые червонцы. Взятки и тогда умели давать и брать. Инженеришки быстро сообразили, что к чему: линию на карте по другому месту прочертили – и остался городок прежним тихим захолустьем. Купчики-то потом охватились, поняли, что дали маху – барыши у них всё равно сошли на нет, бросились было по присутственным местам исправлять промашку, да поздно: поезд ушёл».
Подборка «Словник» великолукской поэтессы Людмилы Скатовой по словесному богатству напоминает изобилие поэм позднего Николая Клюева. Да и по тематике это историческая, религиозная, повествовательная лирика, затрагивающая сказание о Китеже, биографию воина и поэта Николая Гумилева, судьбу России в годы нашествий. В текстах есть не только мелодия, но в первую очередь мысль, и достаточно гражданская. В современном мире от поэта не требуется непременного мужества служения своей эпохе, тем более если речь о женщине. Однако здесь Скатова напоминает нам о высоких идеалах предков, сохранении национальной истории и фольклора, державности – не столько в дидактической форме, сколько самим своим голосом. О ней можно сказать, как о Елизавете Английской, что, хотя она женщина, но сердце у нее мужское.
Искусственными зачатьями.
Повесть Марии Бородиной «Сотки» – «Вишневый сад» на новый лад. Но это не римейк, не пародия, а самостоятельное, умело и увлекательно написанное произведение. Перед нами земельное наследственное владение под Москвой, подлежащее разделу между двумя состоятельными семьями. Никто не хочет уступать, до правды уже не докопаться, но явно одно: старая интеллигенция, представленная семьей Смагиных-Кориных, владеющая историческими правами на земли и постройки, сдает перед напором нуворишей Хвощёвых, сначала купивших кусочек, а теперь желающих получить всё. Основные роли классической пьесы проглядывают в новых персонажах. Отошедшая от дел глава семейства Анна Андреевна по факту управляет всем происходящим. Ее дочь, зрелая дама с не очень благополучной личной жизнью, ищет себя в бизнесе, но ее настоящие мысли – о кузене, женатом ловеласе, который прекрасно сознает свою мужскую привлекательность, однако на самом деле об Ирине и не думает. Юная Ксения задыхается в этом памятнике семейной старины, ее тянет в Москву, она хочет стать модным фотографом, однако на жизнь в столице нужны деньги, которые не так-то просто вытянуть из родителей. Можно сыронизировать, что чеховские декорации несколько эволюционировали: перед нами уже мир «победивших Лопахиных». Действие происходит век спустя, причем важно то, что Лопахины победили не только физически, но и духовно. Дети и внуки семейства Анны Андреевны, произошедшей из рода инженера-фабриканта, до революции владевшего производством, стремятся то в сомнительную торговлю контрафактом, то к столичным приключениям. Да и с другой веткой по дядиной линии все не гладко: красавчик Кирилл не слишком верен супруге, мотылек по жизни, сам не знающий, чего хочет. Мать его Марина рыдает над своей жизнью, сложившейся не так, как ей бы хотелось, и разбившейся, как дедова статуэтка. Уходящее большое прошлое как лейтмотив преобладает над красивым будущим. В которое так стремятся молодые потомки семейства Смагиных, но где они вряд ли смогут играть желаемые роли без ускользающего капитала предков.
Текст интересен по фабуле, в нем есть ходы-обманки, например, полностью отсутствует романтическая линия между Ириной и Кириллом, существующая лишь в воображении экспортирующей янтарь дамы. Главная героиня Анна Андреевна сначала кажется альтернативной Раневской, однако по ходу дела мы видим, что ей присущи мудрость, смирение с неизбежным, принятие того, что жизнь несправедлива, но все же она продолжается. Оригинален и элемент «производственной прозы»: современных тридцатилетних свое дело интересует чуть ли не больше интриг, они хотели бы сохранить права на наследство, и все же собственная реальность занимает их порой больше семейной истории. Произведение открывает ряд вопросов, важных и интересных читателю. Хотя в качестве недостатка можно указать на малое внимание к последнему. Это в советское время вся коллизия могла строиться на больном «жилищном вопросе», как в повести Ю. Трифонова «Обмен». Сегодня избалованность изобилием книжного рынка приводит к ожиданию сложной романтической интриги, и как раз этого «развлекательного» элемента недостает.
Регулярная, как мы сегодня говорим, лирика Натальи Перстнёвой с условным названием «Дудочка ветра» кому-то покажется старомодной. Она очень мелодична и приятна своей легкостью, изящным парадоксом, но если мы попробуем привязать ее ко времени, то увидим, что отражение современности в ней весьма зыбкое. Разумеется, по стихам классиков тоже не всегда можно предположить, когда они написаны, однако сегодня считается, что поэт – эхо происходящего. Лирике Перстнёвой присуща балладность, ее можно назвать в хорошем смысле женской: две любовные драматические истории – об архетипических возлюбленных и о Фридрихе Иерониме и Марте. Романтическая, даже экзотическая подоснова наводит на мысль о том, что эти тексты могли бы исполняться под музыку. Вкрапление «вечных мотивов», формул о любви и смерти, ностальгии и изгнании, призраках прошлого – не перетекает в сумеречный фон, это игровое пространство. Иногда такую лирику называют изящным изделием, наследующим определенный канон уже знакомых мотивов и сюжетов, обвиняя в недостаточной глубине или слабой привязанности к происходящему. Однако по своей природе поэзия – искусство прекрасного, а не хроника.
Такое смертью называют.
Рассказ Василия Килякова «Из рода в род» формально посвящен похоронам деревенской старухи, а на самом деле – некоему внутреннему преображению лирического героя, катарсису. Сюжет его достаточно необычен: современный столичный житель, уже не такой молодой, отправляется на похороны старушки-родственницы в редкую глухомань возле Ташкента (из рассказа я не сумела до конца понять, родная ли она бабка герою – или косвенная родня). Несмотря на снега и мороз, на замерзшую землю, житель деревни дед Кузьма с помощью местного электрика сам осуществляют весь похоронный ритуал. Нам трудно вообразить, что похороны – и это в наши дни – могут выглядеть так доисторически: ни священника, ни приехавших близких, ни положенного обряда, лишь краткое причитание родственницы, бабки Лизы скорее для формы, яма да холмик. Ни особого трагизма, ни глубокой скорби. Бог дал – Бог взял. Однако то, что для нас выглядит шокирующее, мне доводилось встречать у своих сибирских родственников: спокойное, заурядное отношение к смерти старого человека. Для них уход старика так же естественен, как рождение ребенка, и эта культурная разница не следствие душевной черствости, а пример иного мышления. Наследуя лирическую рефлексию Казакова, герой внезапно переживает нечто вроде откровения при созерцании снегов, тишины, сурового и простого края. Он приходит к мысли, что сама обыденная, ежедневная жизнь в таком месте – уже подвиг, уже героизм. И что подобная смерть человека уже подобна гибели в бою, потому что вся его жизнь – это как вечный бой за выживание, за освоение трудной природы, за способность вынужденно существовать в таких условиях – и еще сохранять в себе веру.
Поэзия Юрия Могутина в наши дни именуется маргинальной, иронической. Романтический образ любимца муз исчезает, а вместо него возникает далекий потомок Вийона. Лирический герой (не полностью тождественный автору), по советскому негласному канону, родился на сеновале (только не на графском), детство его при отце народов было босяковским, жизненный опыт бил всяко. Однако не довел до жалобного сентиментального романса о злоключениях сироты, напротив, это стихи достаточно стойкого и даже обладающего чувством юмора человека. Мотивы стихов Могутина мистическо-социального, а не чувствительного толка. Больничный покой чудится ему населенным чудовищами – медбрат лишает его глазного яблока, сопалатник похож на заключенного; хлебосольная страна грез в итоге вылилась в симбиоз «ментов и бандитов», она не только «слопала» Блока, но и «уходила» Лермонтова и Пушкина, увенчав подобающим финалом и очень жизненный путь лирического героя. Такая интерпретация истории и жизни, конечно, имеет как поклонников, так и противников, ведь поэзия должна быть поэтичной – или нет?
Мог распрощаться со свободой.
Дмитрий Афонин в своей исследовательской работе «Рукопись» (с подзаголовком повесть-версия) разбирает чрезвычайно интересный новый список повести о Евпатии Коловрате, найденный, по словам автора, в 2018 году в Иоанно-Богословском монастыре под Рязанью. Переводчик и ученый-филолог Г.И. Селиванов адаптировал старинный текст для современного читателя. Небольшая рукопись содержит альтернативную версию событий времен Батыевых, давая повод к пересмотру исторического знания и самой фигуры Евпатия. Если, конечно, допустить, что он действительно существовал, а не был плодом вымысла одаренного монаха-булгарина Пафнутия, когда-то приближенного рязанского князя. Настолько близкий к современному языку перевод сказания вызывает двойственное чувство, как и адаптированный вариант древних молитв. Однако признаем, что для исторического документа важнее возможность полноценного понимания, нежели сохранение летописного колорита.
Небольшая подборка популярного екатеринбургского поэта и барда Александра Дьячкова «Невпопад», состоящая из новых и старых стихотворений, говорит просто о сложных вещах: смысле бытия, нравственности, необходимости творчества, любви. Хотя темы его лирики более чем привычные, неожиданная метафора делает мир вокруг творением поэта. Дьячков один из тех авторов, про которых можно справедливо сказать, что они лепят мир наново посредством языка и образа. Однако не романтизированный месяц-осленок новокрестьянских поэтов, даже не метафизическая скрипучая трава Юрия Кузнецова, а приземленная недораскрывшаяся шишка гранаты перед нами:
и вот теперь на паузе стоит.
Замечательная новелла Алёны Новиковой рассказывает о буднях молодой преподавательницы иностранного на курсах для небедных молодых людей, свитер которых стоит как ее месячный оклад. Это психологическая вещь, затрагивающая, несмотря на маленький объем, большое количество социальных, личных, философских и даже политических проблем. Подобная емкость и многосмысленность указывают на авторскую одаренность. В начале рассказа заходит речь о представлениях о коммунистическом обществе у тех, кто родился после нулевых. К финалу мы наблюдаем иронический и печальный ответ в духе американской мечты, которая незаметно стала явью. У дедушки живет безымянная кошка (обезличивание), молодой человек не хочет обеспечивать себя – раз женщина за равноправие, почему бы не поменяться ролями (диапазон возможностей)? Учительница занимает по отношению к ученице положение если не равенства, то сестринства («модель мастерской»), но в то же время в чем-то она «стареющая девушка» без семьи и детей (плоды феминизма), а юная нимфа с малиновыми волосами подцепила золотого мальчика. В таком свете название рассказа «Научная фантастика» (тема для эссе учеников) приобретает дополнительные оттенки.
Публицистический материал Андрея Воронцова «Соперник Маяковского» о взаимоотношениях Лили Брик, Владимира Маяковского и политического авантюриста и любимчика вождя мирового пролетариата Краснощекова с трудом укладывается в заявленный жанр – эссе. Да, это пристрастный, даже фривольный текст, интересный в чтении, тем не менее, родства с газетной периодикой у него больше, нежели с научным исследованием или изящной словесностью. Из статьи мы узнаем некоторые подробности из личной жизни шведской семьи Бриков-Маяковских, периодически подбиравших и выбрасывавших из гнезда новых «птенцов». И стиль изложения наводит на мысль, что ни к самой легендарной музе, ни к ее певцу особого уважения Воронцов не питает. Что, конечно, его полное право.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети