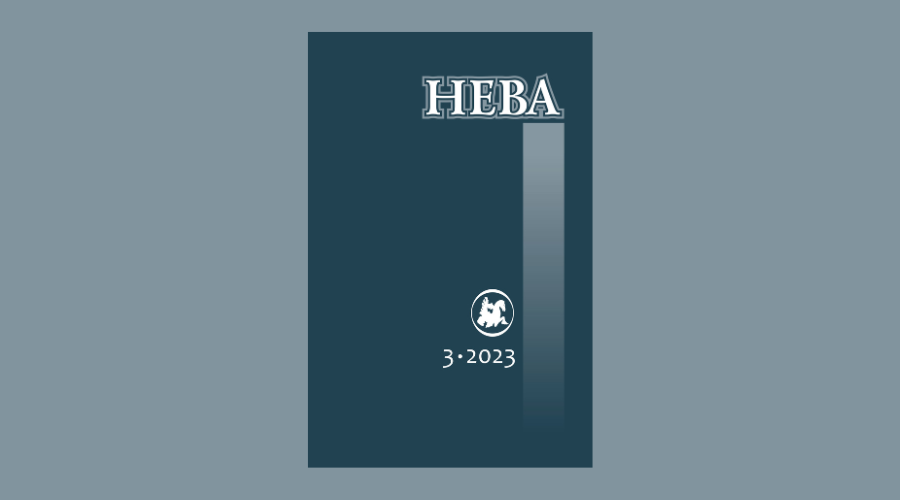«Нева» № 3, 2023
Литературный журнал «Нева» издаётся в Санкт-Петербурге с 1955 года. Периодичность 12 раз в год. Тираж 1500 экз. Печатает прозу, поэзию, публицистику, литературную критику и переводы. В журнале публиковались Михаил Зощенко, Михаил Шолохов, Вениамин Каверин, Лидия Чуковская, Лев Гумилев, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Фёдор Абрамов, Виктор Конецкий, братья Стругацкие, Владимир Дудинцев, Василь Быков и многие другие.
Главный редактор — Наталья Гранцева, зам. главного редактора - Александр Мелихов, шеф-редактор гуманитарных проектов - Игорь Сухих, шеф-редактор молодежных проектов - Ольга Малышкина, редактор-библиограф - Елена Зиновьева, редактор-координатор - Наталия Ламонт, дизайн обложки - А. Панкевич, макет - С. Былачева, корректор - Е. Рогозина, верстка - Д. Зенченко.
«Если быть вещью…»
Очередной номер журнала «Нева» посвящен теме человеческого достоинства и степени его падения, вольного или невольного. В рассказе Александра Жданова «Инвентарный номер» девочка Катя, внучка завхоза, вдруг видит на руке у бывшей узницы концлагеря порядковый номер, какие бывают на мебели, и умоляет бабушку бросить ее работу учетчицы. Школьница с ужасом осознала, что в мире были «темные времена», когда не только стул, но и человек мог приравниваться к «говорящему предмету». В рассказе Владислава Черемных «Генерал» подросток из военной семьи сталкивается с надругательством над дворником-мигрантом, мирным и культурным человеком из тех мест, где служит отец Жени. Ведь инородец – «недочеловек» в глазах бандитов перестройки, тогда как для двуязычного мальчика он почти земляк. Рассказы Олега Рябова освещают печальный парадокс: книга сочинений Плиния Старшего столько сделала для воспитания поколений, что сама уже «практически личность», в то время как перестроечный мелкий бизнесмен утратил человеческое достоинство, наживаясь на беде ближнего, забыв свою единственную любовь и превратившись почти в стервятника по отношению к бывшим одноклассникам и сокурсникам. Профессор Вера Харченко рассуждает в своей статье о важности элитарной речи и интеллигентской культуры, идущих от духа, а не от экономического развития общества. Стихи немецкого поэта Уилфреда Оуэна, посвященные Первой мировой, демонстрируют, к чему приводит обесценивание человеческой жизни, представление о людях, как о «муравейчиках».
Поэзия номера (так случилось, что ее представляет прекрасный пол) посвящена месту женщины в истории и в частной жизни, анализу ролей современной героини, перспективе ее движения в русле активной феминизации или, напротив, саморефлексии. Елена Шуваева-Петросян в минималистической лирике повествует о трудных судьбах мужественных женщин Кавказа. Наталия Кравченко – интеллектуал, вглядывающийся в свою жизнь, Татьяной Шепелевой владеют меланхолия и художественные поиски, а Алена Бабанская – кроткий медитативный автор.
В разделе публицистики Виктор Костецкий стремится напомнить нам, что славянские племена с древности сочетали в себе моральную силу и гуманистическое отношение к другим народам, хранили в себе «дух рыцарства», не позволивший нашим соотечественникам уподобиться варварству тюркских племен и франкских грабителей. Лингвист Ольга Глазунова в рубрике, посвященной театру, обращается к двум новым постановкам «Трех сестер» Чехова, как к призыву быть милосердным к ближнему и прислушаться к проблемам общества. Борис Углицких и Вячеслав Влащенко показывают в своих работах, что бывает, когда человеческая жизнь перестает быть приоритетом для политики или общественного устройства.
Среди прозы номера хочется выделить повесть Владислава Черемных «Генерал» – печальную психологическую драму о рано повзрослевшем ребенке войны, для которого мирная жизнь оказалась не лучшей альтернативой. Воспитанный в жестких реалиях вялотекущего приграничного конфликта, Женя вместе с солдатами проходил школу жизни на плацу и сдал экзамен в перестройку, «воспитывая» бандитов на задворках школы. Что будет дальше с эти умным, жестоким, способным на сильные чувства и самостоятельные решения парнем, мы не можем предположить. Но, скорее всего, он станет именно тем человеком, от которого хотел спасти его собственный отец, – от себя самого. Среди поэтов отметим Татьяну Шепелеву в силу ее мастерства и близости к поэтике Елены Шварц.
Номер открывает сильная подборка российско-армянской писательницы, редактора и профессионального альпиниста Елены Шуваевой-Петросян «Русские покрова». Стихи автора касаются трудных судеб жителей Кавказа: женская вдовья доля, война, многодетность без мужской поддержки, концлагерь. Однако ее лирика, минималистическая по форме, библейская по аллюзивности, жизнеутверждающа по существу. Совпадая с тенденцией современности, поэтический язык Елены емок, риторичен, тяготеет и к суггестии притчи, и к освобожденному гетероморфному стиху. Несмотря на «социальный аспект», творчество ее привлекательно тем, что сохраняет художественную основу, эстетическую доминанту, не уходя в публицистичность, сентиментальность, нарратив.
а душа – ветром!
Повесть пермского прозаика Владислава Черемных «Генерал» представляется осовремененной версией фильма «Офицеры». Только в фокусе автора не гражданка и Вторая мировая война, а кавказский конфликт и бандитские разборки 90-х годов. Мальчик Женя, сын полковника, вырос в местах, где война – норма жизни. Спартанское воспитание укрепило его тело, но преждевременный опыт наблюдения и участия в том, что не должно касаться детства, сделало его маленьким взрослым к подростковому возрасту. Поздно поняв, каким сделал сына исторический контекст, а отчасти и из соображений безопасности, военачальник отправляет его «на гражданку», к деду-геологу. Вот только это решение приходит к нему поздновато, потому что личность уже сформировалась, – и Женя видит «мирный» перестроечный Урал как пространство потребления, коррупции, блата, национального шовинизма, эгоизма, барыжничества, лжи и лицемерия. А решать такие проблемы он привык только одним способом, приведшим к прозвищу, вынесенному в заглавие. Первая сердечная дружеская привязанность, испытанная мальчиком, – к подчиненному отца, молодому военному, не сумевшему вписаться в мирную жизнь и полетевшему на верную смерть в пекло приграничного конфликта, довершает формирование идеалов будущего офицера. Теперь его убеждения окрашены кровью близкого человека, и ему нельзя ни обмануть, ни с пути свернуть.
Произведение писателя хорошо демонстрирует, как ребенок, даже неумышленно со стороны старших, становится заложником интересов взрослых, воплощающих полярные идеалы. Как его, в сущности, еще незрелое сознание стремится к простому решению сложных вопросов. Отец-военачальник надеется спасти сына от собственной судьбы, а возможно, и от самого себя. Ведь есть вещи поважнее различения добра и зла, как их понимает военный. Например, знание, что сам путь солдата – война, и даже самая праведная, самая принципиальная война – это страдания, огонь, кровь и смерть. Словно некий жребий, Арес уже владеет мальчиком, как и его отцом, и потому он видит поле боя там, где другие видят свободный рынок, фейерверк развлечений, возможность погреть руки, романтику или счастливое будущее. Немного сильных чувств по отношению к несправедливо угнетаемому сторожу-мигранту, несколько необдуманных слов власть имущего, воспринятых близко к сердцу, – и кто знает, у истока какой битвы вновь стоит время – во имя самых достойных мотивов. Там, где воскресает призрак фашизма в символе на стене, где старый коммунист готов бороться за свою попранную правду, бандит в костюме чиновника берется за автомат, а десятиклассник, для которого война никогда не кончается, привычным движением скрывает лицо черным чулком солдата кавказской земли, возможно всё – кроме мира.
Обаятельные и ускользающие стихи журналистки из Саратова Наталии Кравченко посвящены роману с тенью. Их лирическая героиня – сложная, загадочная женщина, не совсем душа-змея, как альтер эго Зинаиды Гиппиус, но и не страстная чаровница, как персонаж Черубины де Габриак. Напротив, это бесплотная мечтательница, надеющаяся встретить половинку в заресничной стране, придуманной Мандельштамом. Стихи Кравченко близки символизму, философские, изысканные, кредо поэзии в первую очередь как высокого искусства и отзвуков реального мира больше всего подойдут им.
а там январь и больше ничего.
Исторические пародии в прозе писателя из Астрахани Павла Вялкова отсылают к «Истории государства Российского» в переложении А.К. Толстого. Земля наша обильна, порядка только нет. Эта максима развивается всесторонне, уводя то в золотоордынские времена, то в петровскую эпоху, то в княжение Владимира Великого. В чем задача избранного жанра, если только цель не в высмеивании источника? Думаю, это увеселение читателя и желание донести некую собственную мысль или концепцию. С первым Вялков справляется гораздо успешнее: мы уже посмеялись и над плевком Петра Великого в английский парламент, и над ханом Ратмиром, осчастливившим 300 старух, и над принципами организации казацкой вольницы, где профессия переходит от одного к другому в зависимости от очереди. Хотя все это занимательно и годится для чтения на досуге, однако главная мысль автора представляется туманной. Писатель – не шут и не комедиограф, но если пытаться смотреть вглубь, всплывает только идея абсурдности исторического процесса, заново переписываемого при каждом новом временщике. От нового правителя зависит, каким будет выглядеть предшественник в глазах потомков, – мудрым или развратным, провидцем или фигляром, даже мужчиной или женщиной. Такое печальное, ироническое видение исторического процесса указывает на систему взглядов автора. Но, возможно, мы увидели то, чего и не подразумевалось, благо, почва для этого самая благодатная.
Поэзия историка Татьяны Шепелевой из тех, что называется интеллектуальной, философской, сложной, профессиональной. Здесь мы слышим и экзистенциальную скорбь Елены Шварц, и саморефлексию Иосифа Бродского, и печально-принимающий посыл «Московского времени», – всего понемногу. Земную жизнь пройдя до половины, поэт понял, что в XXI веке эта цифра подведения промежуточного итога сдвинулась, как и гендерные роли, и социальные позиции. Для чего же был этот разный, долгий, насыщенный опыт? Мы привыкли видеть в подобной лирической роли героя-мужчину, здесь же знамение времени, его продукт – самодостаточная носительница сложного комплекса смыслов. Емкость, рассудочность, самокритичность, тем не менее, не исключают глубины переживаний и полноты чувств.
Неутешительные выводы далеко не женской поэзии указывают на культ одиночества и свободы, немного на традицию андеграунда, на меланхолию. Словом, творчество Шепелевой не совпадает с легкомысленными популяризаторскими представлениями о современном искусстве, всё всерьез и надолго. Такая ниша сегодня выглядит слишком классической, то есть морально немного устаревшей, с ее рафинированностью и словесной эквилибристикой, которая не может не восхищать, но, как писал поэт, нынче несколько смешна.
Что бы в безвременье с нами стало б?
Рассказы литератора и графика Александра Жданова обращаются к советской истории. Первый, «Инвентарный номер», может быть назван литературой для подростков. Он повествует о доперестроечной реальности, в которой младшеклассница Катя открывает для себя существование бывших узников концлагерей. Воспринимаемые окружающими не только с жалостью, но и с некоторой настороженностью, малолетние жертвы нацизма, ставшие пожилыми людьми, скрывают свое прошлое – свой инвентарный номер на руке. Сложный исторический вопрос нельзя объяснить в двух словах подростку советской эпохи, стремящемуся к истине, как он ее понимает. Другой текст, «Крест на ладони», затрагивает проблему национального шовинизма на позднесоветском пространстве. Ценности старшего поколения невозможно «демократизировать», как и изменить молодого, но взрослого человека со сформированными убеждениями уже непросто. Эстонцы, латыши, русские – между ними «искрит». Натянутый, соломенный мир то и дело вспыхивает. Пожилая семейная пара, Тынис и Мэрью, стремятся принять и понять новым мир, в котором их внук приятельствует с русским парнем, а внучка не сумела сохранить честь до брака. Однако что трагедия и попрание завета предков для стариков, для молодой женщины незначащее обстоятельство. «Портрет Русалки» – о заурядной «национальной» трагедии алкоголизма: красивая женщина теряет ребенка и способность к деторождению, избитая своим благоверным. После этого она называет истинной женой суженого водку, потому что именно она теперь ему и шея, и голова. Женщина не хочет обращаться к закону, как сегодня делают жертвы домашнего насилия, потому что, видимо, со смирением принимает свою горькую судьбу.
Произведения Жданова трудно назвать остросоциальными, им свойственна повествовательность, бытописательство. У них нет однозначной морали или полемической заостренности. Автора скорее можно назвать рассказчиком, делящимся с читателем-собеседником тем, что ему довелось встретить или переосмыслить.
Лирика московского поэта Алены Бабанской минималистична и медитативна. Мы вспоминаем Владимира Соколова: «Чего и умным не подделать» – вот его определение поэзии. Незатейливая, но гармоничная мелодия бытописательства организует мир лирической героини. Впрочем, можно ли назвать бытом ее нехитрое бытие? Стремление к радости без причины, принятию нового дня – в сущности, христианский поиск, хотя речь здесь не о религии. Внешний шум затихает, и мы ощущаем, как падает снежинка, дышит старенькая мать, кошка играет с ветром. Мир полон тайной красоты и смыслов, если настроиться на нужную волну.
Собой заслоняя от тьмы.
Рассказы-притчи Олега Рябова, главного редактора журнала «Нижний Новгород», обращаются к истории – послевоенной и перестроечной. Это два печально-забавных эссе о перемещениях старинной книги Плиния Старшего и… о жизненном движении мелкого бизнесмена. По иронии, судьба и вклад книги в развитие и смысл цивилизации представляются более значительными, нежели усилия торговца саженцами. Книга здесь «почти что человек», недаром от ее лица ведется повествование; человек же, напротив, превращен несчастьями его жизни в нечто прикладное, второстепенное. Герой рассказа «Потерял» на самом деле потерял вовсе не свой мелкий бизнес, не жену, не телефонную книжку с контактами одноклассников, не любовь юности – он потерял свою жизнь. Из человека, способного на безумное и вечное чувство к роковой женщине, к пенсии он превратился в барыгу, наживающегося на чужом горе. Как говорится в классике, история пошлая, обыкновенная.
Странные мистические рассказы Марии Ильиной тоже отправляют нас в историю – в XVIII век. Оба текста посвящены загадочным недугам – физическому и душевному. Не оставляет чувство, что краткие нарративы – часть некоего большого полотна. Ильина пишет увлекательно и необычно, на грани стилизации и сказовой манеры. Думаю, такой человек мог бы написать прекрасную историческую повесть. В то же время приведенные эпизоды выглядят то ли фрагментами воспоминаний героев, то ли этюдами, некоторой демонстрацией навыков и мастерства.
Белгородский профессор филологии Вера Харченко анализирует в своей научно-педагогической статье элитарную детскую речь. По результатам ее исследований, образ говорения и мышления, прививаемый в интеллигентных семьях с малых лет, положительно влияет на духовную и культурную составляющую личности. Последние два «компонента», по мнению ученого, являются основой формирования высокоразвитого общества. Идя от «духа», а не от экономического, то есть материального контекста, исследовательница убеждена, что формирование пространства будущего такими личностями, выросшими в любви, внимании и правильной среде, оставляет надежду на высокий творческий потенциал социума, несмотря на его демократизацию с помощью культуры интернета.
«Комплимент прекрасно включает эмоции, а эмоции – это самое главное в жизни, хотя мы так не говорим и даже порой не думаем. Культура держит дух. Говоря комплимент, ребенок испытывает «восторг перед чужим талантом», а это значимая часть элитарного поведения. Подражая взрослым, перенимая модели комплимента, ребенок учится быть артистом минуты. Да-да, он осваивает себя как человека, оценивающего другого, а это весьма значимо для него. «Брызги шампанского» – так интерпретирует себя актер в свои самые значимые минуты, хотя до этого бывало много, очень много репетиций. Наш малыш схватывает высшую часть этих действий, и она прекрасна».
В разделе переводов, в связи с юбилеем, размещена подборка английского поэта Уилфреда Оуэна, погибшего на фронтах Первой мировой (перевод и предисловие Е.В. Лукина). Пацифист и солдат, юноша обрисовал в своем творчестве войну в ремарковском ключе «Возвращения» – бессмысленная бойня, гибнущие юнцы, сидящие по домам жиреющие мещане, сосед-колбасник подкатывает к соломенной вдовушке фронтовика, а сошедший с ума Джимми никак не может избавиться от жутких видений полей сражений. Емкий, балладный, несколько ироничный стиль поэта-бойца фиксирует в не лишенном эстетики ключе основные «философские вопросы» братоубийства: во имя чего и кого происходят трагические события; что ждет дома несчастных калек, ставших обузой; стоит ли относиться к жизни и смерти проще, как к испытанию на прочность, в то время как гражданский наведывается в гости к твоей невесте, а друг кончается в лазарете? Представитель «потерянного поколения», поэт становится носителем и его взглядов; впервые переведенный на русский язык, Оуэн восстанавливает пробел в изучении военной лирики начала XX века.
Любопытное и приятно написанное философское исследование происхождения древнерусской государственности профессора Академии художеств Виктора Костецкого следует идеям Льва Гумилева. Пытаясь найти альтернативную историческую колею (впрочем, как объясняли нам в вузе, классическая альтернатива возможна лишь при наличии двух, а не, скажем, четырёх путей), ученый задается вопросом, откуда взялись пресловутые «русы» и «восточные славяне», так ли всё гладко, как нам удобно это писать и читать? Подобно Гумилеву, Костецкий указывает на крайнее смешение этносов, проще говоря, некоторую неразбериху и ассимиляцию, мультикультурализм того далекого первого тысячелетия нашей эры, когда происходило формирование государственности, языков и верований наших предков. Булгары и франки, чехи и скандинавы, христиане, мусульмане, язычники, торговцы и разбойники, просветители и корыстолюбцы, – все они стремились подсознательно к обретению своей идентичности. И где-то среди них были и русы – воины, земледельцы, пираты, подвижники, торговцы, рабы, завоеватели. Интересным в концепции Костецкого видится понимание духа русского этноса как парадоксальной природы соединения пиратства и рыцарства. Известно, что огромные государства собираются отнюдь не молитвами и постом. В то же время Костецкий утверждает, что уникальной чертой славянской государственности – при таких-то территориях – была именно ее гуманистическая составляющая, т. е. романтизм, милосердие к ассимилированному ближнему, внутренняя духовность. Думаю, если бы потомкам древних саксов или монголов сказали, что их деды были просто захватчики и грабители, лишенные организующей идеи и высоких порывов, в отличие от других, они бы обиделись. Таким образом, в концепции Костецкого есть оттенок детского «ты плохой, а я хороший», однако сама работа его увлекательна, указывает на глубокую заинтересованность автора и более чем обширный кругозор.
Публицистическое повествование инженера и военного в отставке Бориса Углицких «Англосаксы в российских революциях» посвящено событиям околореволюционного времени и вмешательству английских и американских высших чиновников в отечественную ситуацию. К достоинствам исследователя можно отнести динамизм, доходчивость его суждений, неравнодушие к судьбам Родины. Однако очевидная эмоциональность и затрагивание актуальности последних дней, которые хороши для газеты (например, «Литгазеты»), в избранном художественно-литературном серьезном издании несколько выбиваются по резкому тону. Конечно, только историка мы призываем к мудрости и «отстоянному материалу», а к публицисту предъявить такое требование не в праве. И все же одно дело – характеризовать злокозненные манипуляции англичан в эпоху Николая II, совсем другое – размышлять о состоянии «пятой колонны» на сегодняшний день. Как ни парадоксально, несмотря на прямое осуждение автором векового и неполезного вмешательства Англии и Штатов в российскую политику, мы до конца не сможем разобраться в симпатиях публициста, а лишь в его антипатиях. Так, Николай II представляется ему слабой политической фигурой, большевики – финансируемыми враждебными державами, церковь склонна теряться в сложной ситуации, западные союзники занимаются только развалом «братской России» изнутри; лишь отец народов снискал некоторое одобрение автора, но это не точно. Все же мир не состоит из предателей, лгунов, корыстолюбцев и подхалимов. Одна из задач автора – показать свою страну стойкой в трудную эпоху катаклизмов и перемен. Но подробный разбор того, как, кто и сколько времени расшатывал российскую государственность, невольно создает образ большой и потенциально сильной, но не очень-то упорядоченной, а порой и неуправляемой державы, что, если верить А.К. Толстому, возможно, исторически так и есть.
Литературовед Вячеслав Влащенко рассуждает о хрестоматийной пьесе А.Н. Островского «Гроза» по случаю юбилея классика. По мнению автора, это чуть ли не главное – и до сих пор недооцененное – творение русской драматургии. Из-за чрезмерного «замыливания» в школе оно уже не может быть прочтено и даже поставлено непредвзято. Полярные толкования как самого текста, так и образов героев – то в социальном, то в христианском, то в житейском, то в марксистском ключе – привели к утрате первоначальной актуальности. Кто для нас Катерина – жертва, злодейка, грешница, героиня? Способны ли мы разглядеть в «Кабанихе» отверженную мать, страдалицу за старую веру, хранительницу устоев – или для нас она лишь чудовище? Все смешалось в отечественной педагогике за десятилетия, и мы уже и сами запутались, где зло, где добро… В то время как, по мнению Влащенко, молодое поколение, только открывающее для себя жизнь, ищет нравственной опоры в тяжелые личные и исторические времена именно в наследии классиков. Если даже руководитель и учитель не может прийти хоть к какой-то однозначной концепции, христианской ли, социальной ли, что уж говорить о неопытности? Да, неоднозначность прочтения классики и «удобность» ее толкования в нужном русле – вечная проблема, ее вряд ли можно решить «на уровне средней школы». Как и сформировать условного достойного гражданина с помощью верной концепции педагогики – идея достаточно утопическая.
Лингвист Ольга Глазунова в своей интересной и познавательной статье о двух различных постановках чеховской пьесы «Три сестры» в Санкт-Петербурге показывает, как по-разному можно понять и поставить одно и то же художественное произведение. Молодежный театр на Фонтанке и Театр Европы словно бы соревнуются в наиболее актуальной интерпретации гениальной пьесы. Семён Спивак (Фонтанка) призывает своей трактовкой зрителя к гуманистическим идеалам, не приводящим к успеху в жизни, но сохраняющим на земле сострадание. Режиссер Додин же, напротив, указывает на плачевное состоящие людского общества.
Эссе Марианны Дударевой посвящено образу женщины в творчестве Вадима Шефнера, испытавшего влияние Гумилева, Блока, Есенина и других классиков серебряного века. Елена Севрюгина рассказывает о сборнике стихов Владислава Китика.
В рубрике «Книжный остров» Елена Зиновьева рассказывает о новинках: совместной работе Александра Дюкова и Дмитрия Пучкова «За что сражались советские люди» (2022), посвященной преступлениям нацизма, в которых сами немцы не спешат каяться; повести Михаила Кураева о легендарной летчице Ольге Лисиковой (переименованной в книге в Аржанцеву); воспоминаниях японки Эмико Лёвин о своей свекрови, дочери священника Валериана Боротинского (Спасо-Сенновская церковь). Также обозреваются сборник статей «Европейские монархии в прошлом и настоящем» (2022) и совместная работа Архимандрита Августина Никитина и Георгия Солдатова о российско-гавайских связях.
В рубрике «Пилигрим» Архимандрит Августин Никитин продолжает рассказывать о петербургских храмах в записках иностранцев.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети