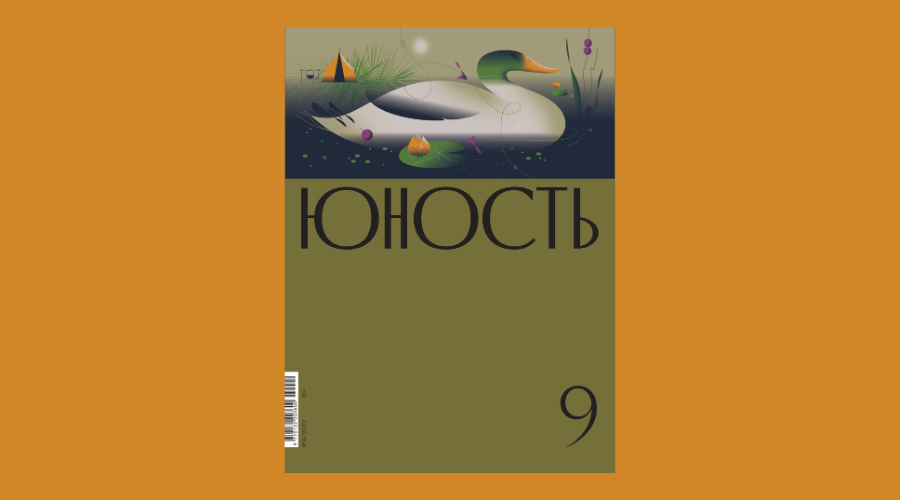«Юность» № 9 (801), 2022
Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Юность» издается в Москве с 1955 года. Выходит 12 раз в год. В журнале «Юность» печатались: Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Борис Васильев, Василий Аксёнов, Юнна Мориц, Эдуард Лимонов и многие другие известные авторы.
Сергей Александрович Шаргунов (главный редактор), редакционная коллегия: Сергей Шаргунов, Вячеслав Коновалов, Яна Кухлиева, Евгений Сафронов, Татьяна Соловьева, Светлана Шипицина; Юлия Сысоева (редактор-корректор), Наталья Агапова (разработка макета), Наталья Горяченкова (верстка), Антон Шипицин (администратор сайта), Людмила Литвинова (главный бухгалтер), Общественный совет: Ильдар Абузяров, Зоя Богуславская, Алексей Варламов, Анна Гедымин, Сергей Гловюк, Борис Евсеев, Тамара Жирмунская, Елена Исаева, Владимир Костров, Нина Краснова, Татьяна Кузовлева, Евгений Лесин, Юрий Поляков, Георгий Пряхин, Елена Сазанович, Александр Соколов, Борис Тарасов, Елена Тахо-Годи, Игорь Шайтанов.
Я мир пряду, потом вяжу, как плед. И укрываюсь им от этих бед
Девятый номер журнала «Юность» за 2022 год открывают стихотворения Юлии Горбуновой. Герой первого стихотворения называет себя маленьким человеком. К образу маленького человека часто обращаются как художники слова (классики и наши современники), так и критики, поэтому в русской литературе это понятие имеет длинную историю воплощений и интерпретаций. В стихотворении Юлии Горбуновой маленький человек окрылен большим чувством любви. Пусть для кого-то он странный чудак, а для кого-то он – целый космос. Ведь он не чудак, просто другой, живет в своем пространстве и видит ту красоту мира, которую не замечают другие.
и этого достаточно.
Второе стихотворение посвящено осмыслению смерти, которая приснилась. В подборке Юлии Горбуновой внутренний мир человека показан с разных сторон: человек наедине с собой, человек в прикосновении к обществу, человек в поиске другого, человек в разговоре с бытием.
В поэзии Татьяны Стояновой прекрасен образный ряд. Проникновенные стихи-разговоры, стихи-монологи, стихи-исповеди.
И укрываюсь им от этих бед.
В стихотворениях Стояновой соединены удивительное умение подбирать точные, пронзительные слова, глубина мысли и сила чувства.
когда в онемевшем горе уже не мешают ей.
Или
Я бы хотела с тобой провести свою старость.
Рассказ Павла Крусанова «Белая тень» состоит из двух частей. Сначала представлено теоретическое осмысление вопроса с банальным и очевидным примером, а во второй части нарисован прекрасный живой пример. Существует концепция тайного зла, силы неизвестного происхождения, которая чинит препятствия простому человеку, и в целом «все это тайное зло, по общему мнению, уже давно определяет текущую повестку. Определяет, не выходя из тени. И хотя эта картина мира порядком истрепалась, другой нет». Но точно так же может существовать и тайный благодетель. Изложение теории реализовано блестяще в виде насыщенной беседы давних друзей, и наблюдать за ходом которой, безусловно, увлекательно. Тональность рассказа меняется: герой едет с женой отмечать масленицу. Провинция. Природа. Давние друзья-знакомые. Тишина и покой. Вдали от мест, где вершатся судьбы мира, герой неожиданно встречает тайного благодетеля. «Я так думаю и так для себя хочу, чтобы с теми, с кем жил на зямле, с ними жить и там, – взгляд Пал Палыча снова скользнул вверх, – чтоб ня стыдно было, чтоб сказать им при встрече: «Ну как, есть претензии?» И они меня поцалуют, а я – их». Намерения Пал Палыча просты и чисты. Конец масленичной недели. Прощеное воскресенье. Благостный свет. Автор соединяет разные манеры изложения и, добиваясь поразительного эффекта, передает красоту светлого чуда добра.
Главная стилевая особенность рассказа «Белая лазоревка» Натальи Бондарь четко заявлена в первом абзаце: «Я еле сдерживаю метафоры. Колкие, они рвутся из глубины меня и застревают на кончике языка». Сплетение метафор затягивает подобно омуту. Постепенно в водовороте сознания вырисовывается образ героини, переживающей кризис, возможно, даже разрыв с близким человеком или разлад с собой, в борьбе сходятся и расходятся образы волка и птички-лазоревки. Выбрав форму бесконечных ассоциаций-образов-метафор, автор делает рассказ сложным, не универсальным, а изображение внутреннего мира далеко не каждому читателю будет созвучно.
Герой рассказа «Итальянец» Алексея Тапутя обращается к детству: «И вот я здесь и снова пытаюсь понять: зачем я ищу этого одиннадцатилетнего мальчика? Что я хочу у него узнать?». Мальчик и его родители живут во вьетнамском городке Вунгтау. Отец героя работает на нефтевышке. Мать скучает дома. А. Тапуть создает яркий образ Итальянца, одноклассника героя. Слово «друг» тут было бы неуместно. Итальянец втягивает героя в хулиганскую авантюру. Образ матери, готовящей ненавистную долму и роняющей половник, затушеван и теряется на фоне отношений мальчиков, но именно с матерью связано то, что хочет вспомнить герой. Подспудные психологические течения, проскальзывающие в деталях, недомолвки-зацепки подготавливают к финалу, однако, он всё равно оглушает неожиданным открытием. И герой остаётся один на один с правдой, которую искал, и незнание которой так долго мучило его.
То, что случилось с человеком в детстве, влияет на всю жизнь, и каждый обременен прошлым, которое подчас не так-то просто отпустить. Можно прожить значительную часть жизни и не быть собой.
Для героини рассказа «Тигр говорит «р-р-р»» Яны Москаленко переломным моментом становится появление отчима, который очень жестко пытается исправить ее картавость, но девочка упорно отказывается произносить ненавистную скороговорку. Столкнувшись однажды с непониманием и неприятием, героиня учится подстраиваться, изворачиваться, она ломает себя и отказывается от себя настоящей. Рассказ показывает, как сложны отношения внутри семьи. Пока героиня жила с матерью, она была окружена заботой и любовью, но отчим со своими порядками разрушает их мир. Вторжение чужого человека превращает дом, где заботились и понимали, во вражескую территорию. Всю жизнь героиня несет тяжкое бремя детской психологической травмы, и положение лишь усугубляется тем, что после смерти матери она вынуждена заботиться о старом больном отчиме, потому что он – последнее, что осталось от матери, последнее, что связывает с матерью, хотя он же эту связь и разрушил. Примечательно, что роковая буква «р» есть и в имени героини – Кира. Каково это не произносить собственное имя? Вот такой клубок боли. Яна Москаленко написала очень глубокий рассказ.
Семьи не бывают идеальными, и часто жестоки. Но от этого человек не перестает нуждаться в ощущении связи с семьей, все равно пытается вписаться и страдает от невозможности найти точку соприкосновения.
Еще одна непростая история о принятии себя – рассказ «Дали» (ударение на первый слог) Олега Нестеренко. Дали наполовину абхазка, наполовину грузинка. Всю жизнь она чувствует оторванность от рода, от семьи. Ее никогда не принимали полностью и до конца из-за того, кто она по крови. Рассказ очень интересен этнографически, дано хорошее фактурное описание жизненного уклада. При этом получается ненавязчивое сопоставление внутренней грузино-абхазской сути Дали и разворачивающейся вокруг грузино-абхазской войны, где люди, разные по крови, но много лет живущие на одной территории, становятся врагами. Рассказ увлекает, однако временами посещает мысль, что в большем формате материал заиграл бы более яркими красками. К финалу повествование как будто внезапно сворачивается, сужается, словно значительный кусок пропустили.
Следующий рассказ, напротив, посвящен потере себя. «Сурское радио» Вики Комаровой. Согласно приказу свыше в закрытом городе Сур должно постоянно работать радио, и музыка захватывает город, постепенно сводя героя с ума. Вызывает вопросы игнорирование заглавных букв. Как художественный прием это может быть способ изображения незначительности личности героя, слома его психики и подчинения воли.
«Столик на одного» Екатерины Маевской – трогательный рассказ о покинутой любви, о прощании с возлюбленным. Героине удается придать трагедии форму то ли игры, то ли детективной истории, таким образом глубоко зацепив возлюбленного и навсегда оставшись в его памяти.
Еще один вариант семейной драмы представлен в рассказе «Неумирающий» Игоря Белодеда. В центре сюжета очень неприятный старик, он буквально высасывает жизнь из правнучки, которая о нем заботится, и всех, кто с ним соприкасается. Фокус перемещается от него к внучке и обратно. Вместо того чтобы, наконец, умереть, старик вдруг оживает. Если внезапное прозрение и исчезновение катаракты еще как-то можно понять, то затем градус сюрреализма потихоньку нарастает: «Лучше уж лекарственная одурь в последние часы этой жизни, чем эта его ненависть, которую он изливал направо и налево. Теперь все кончится – и так будет лучше для всех, и в первую очередь для него самого, потому что она его почти перестала любить, а жизнь без любви бесполезна». Собственно, эту лекарственную одурь автору великолепно удается показать и провести через весь текст. И в самом деле – невозможно долго любить того, кто излучает лишь ненависть.
В рассказах Валерия Петкова поднята тема очищения души от черных чувств, – как раз то, чего не хватало герою предыдущей истории. Рассказ «Источник» описывает путешествие в монастырь. Рассказ «РПЖ», на первый взгляд, детский. РПЖ – это ручной пулемет желудевый. Герой, которого донимают в школе, решает за лето смастерить РПЖ и за помощью обращается к Семену, местному блаженному. Однажды мальчик случайно застает Семена за молитвой, и эта страстная, тайная молитва о добре и о прощении меняет отношение мальчика к обидчикам. В рассказах Петкова звучит чудо прощения и очищения.
Отрывок из романа «Отец смотрит на запад» Екатерины Манойло. В этом небольшом эпизоде много смертей. Первая – смерть Серикбая, брата Аманбеке. Затем – смерть несчастной коровы, которую зарезают для поминок. Айнагуль, невестка Аманбеке, сравнивает свою жизнь с судьбой коровы: «В еще живых, но уже будто мертвых коровьих глазах Айнагуль увидела свое отражение. Она вдруг почувствовала себя такой же коровой, свидетелем собственной медленной казни». И наконец – разрушение образа Серикбая. Аманбеке и ее сын Тулин разбирают вещи Серикбая, копаются в его жизни и воспоминаниях, и понимают, что Серикбай был не таким, каким его представляли. В коротком отрывке набросано несколько судеб и характеров, а патриархальный мир пронизан размышлениями и символами смерти. Выбор этого эпизода как отрывка, презентующего весь роман, кажется вполне удачным.
Раздел критики. Иван Родионов в статье «Прятать людей своих» рассказывает о книге Анастасии Астафьевой «Для особого случая». Родионов рассматривает место прозы о деревне в современной литературе и отмечает, что такая проза часто остается на уровне местном и не выходит на уровень всероссийский. В книге Астафьевой, кроме социального смысла, стоит выделить еще и смысл экзистенциальный: «эти люди абсолютно неадаптивны. И бытие их запредельно хрупко. Кажется, лучшее, что можно с ними сделать, – не нарушать их покоя. И автор будто прячет своих героев, защищает их – ему за них больно».
Татьяна Соловьева обозревает книжные новинки. Вторая книга Ислама Ханипаева «Холодные глаза» – это «детективный психологический триллер, то есть вещь, максимально далекая от истории маленького Артура». Подчеркивается стремление автора работать с разными жанровыми формами. В романе Шамиля Идиатуллина «Возвращение «Пионера» показан «контраст между плавным, спокойным и медленным советским детством и быстрой и агрессивной современностью».
Отмечена критиком и художественная биография «Принц Модильяни» Анджело Лонгони (Издательский Дом Мещерякова): это роман о становлении гения и о его гибели. Прозу Бориса Лейбова Соловьева считает «мерцающей, метафизической, пограничной» и о его новом романе «Дорогобуж» пишет: «Автор показывает нам Дорогобуж разных эпох: времен войны смоленского князя с Московией, периода революции, затем – рубежа ХХ–XXI веков, а то и вовсе мифического хронотопа с русалками».
Как общий момент разноплановых рассказов сборника «Околицы Вавилона» Владислава Отрошенко критик называет «тему иллюзорности, мистический реализм, гротеск и мистификацию».
Книга «В сердце Пармы» Юлии Зайцевой является путеводителем по местам произведений Алексея Иванова. «Получается идеальное комбо: принцип писателя «смотри, что пишешь» теперь трансформирован для читателя в «смотри, что читаешь».
Алекс Данчев в книге «100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов» собрал высказывания Маринетти, Аполлинера, Маяковского, Малевича, Родченко, Вертова, Ле Корбюзье, Бретона, Риверы, Колхаса.
Как преподавать зарубежную литературу в разгар исламской революции? – ответ ищет Азар Нафиси в книге «Читая «Лолиту» в Тегеране». Книга о тяжелых временах и «об огромной человеческой силе и способности к сопротивлению, о свободе внутренней, которая оказывается не менее важной, чем внешняя».
Обозревает критик и детскую литературу. Анна Мансо в книге «Все о моем дедушке» повествует о том, «важно обрести и сохранить внутреннюю уверенность, не дать себя сломать, не отвернуться от тех, кто любит тебя по-настоящему».
Гру Дале, Свейн Нюхус, «Мамины волосы». Книга рассказывает ребенку о взрослой и сложной теме, о маминой депрессии.
О «Сказках для тех, кто лучше всех» Роберто Пьюмини критик пишет: «Пьюмини – веселый сказочник, в произведениях которого эстетическое очевидно превалирует над морализаторским и педагогическим, он живет в романтическом двоемирии – и приглашает всех своих читателей присоединиться к нему».
Издательство «КОМПАСГИД» выпустило книгу «Три повести о войне», куда вошли «Полынная елка» Ольги Колпаковой, «Разноцветный снег» Наталии Волковой, и повесть Марии Ботевой «Сад имени Т.С.». «Три повести о войне» – это взгляд из нашего настоящего в совсем еще недавнее прошлое, прошлое, которое каждому юному читателю предстоит узнать и осмыслить».
Критик обозревает книгу парадоксальных и философских сказок нидерландского прозаика и поэта Тоона Теллегена «Неужели никто не рассердится» и психологический роман Лори Моррисон «Выныривай, колибри»: «роман о смелости совершить единственно верный поступок, когда кажется, что все уже пропало, роман о цене настоящей дружбы и любви». Отмечено в обзоре и новое издание Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» с иллюстрациями Анны Зайцевой, вышедшее в Издательском Доме Мещерякова.
Елена Сафронова в статье «Гуманный сыщик Путилин» рассказывает о переиздании двух романов Леонида Юзефовича о расследованиях сыщика Путилина: «Костюм Арлекина» и «Дом свиданий». Отмечено частое в критике сравнение произведений Юзефовича и Акунина. На современном этапе развития русской литературы жанр ретродетектива составляет длинная череда имен, однако, «книги Юзефовича выпадают из ряда. «Костюм Арлекина» и «Дом свиданий», особенно в издании РЕШ 2022 года, принадлежат к жанру метапрозы (в его наиболее популярном формате)». Оба произведения «не просто повествования о преступлении и его раскрытии сыскной полицией, но повествование о том, как создавалась литературная версия некоторых приключений Путилина». Издания снабжены пространными авторскими комментариями.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети