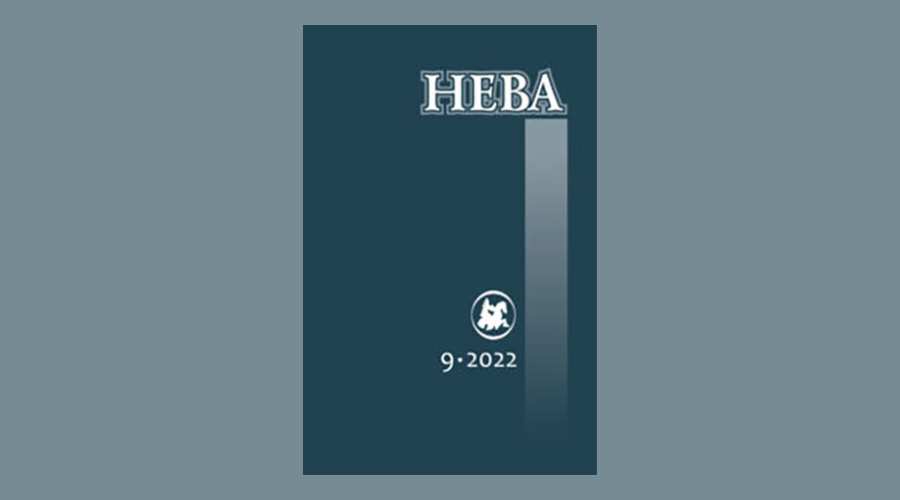«Нева» № 9, 2022
Литературный журнал «Нева» издаётся в Санкт-Петербурге с 1955 года. Периодичность 12 раз в год. Тираж 1500 экз. Печатает прозу, поэзию, публицистику, литературную критику и переводы. В журнале публиковались Михаил Зощенко, Михаил Шолохов, Вениамин Каверин, Лидия Чуковская, Лев Гумилев, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Фёдор Абрамов, Виктор Конецкий, братья Стругацкие, Владимир Дудинцев, Василь Быков и многие другие.
Главный редактор — Наталья Гранцева, зам. главного редактора - Александр Мелихов, шеф-редактор гуманитарных проектов - Игорь Сухих, шеф-редактор молодежных проектов - Ольга Малышкина, редактор-библиограф - Елена Зиновьева, редактор-координатор - Наталия Ламонт, дизайн обложки - А. Панкевич, макет - С. Былачева, корректор - Е. Рогозина, верстка - Д. Зенченко.
Петербург – средоточие творческой свободы
«Нева» – литературно-художественный и научно-публицистический журнал академического уровня. Концептуально «Нева» зиждется на представлении о том, что петербургский период русской истории вызвал к жизни русскую классическую литературу. Поэтому в журнале освещается не только совокупность архитектурных или этнографических реалий Петербурга, но также ряд литературных явлений. Порой они не связаны с петровской столицей тематически, но связаны с нею по существу.
Основные темы 9-го выпуска журнала «Нева» за 2022 год: феномен человека (Татьяна Окоменюк «Звезда Ютуба», «Социологический опрос», «No pasaran!», «Дежавю», рассказы, и др.), долг и свобода человека (Елена Крюкова «Раскол. Книга огня» и др.), война и мир (Владимир Софиенко «Позывной «Америка», «Ангел», рассказы, и др.), любовь и смерть (Алексей Панограф «Последний караим», киносценарий, и др.).
Основные публикации: Евгений Попов, стихи; Елена Крюкова «Раскол. Книга огня»; Алексей Панограф «Последний караим», киносценарий; Александр Рыбин «Фантомная боль», рассказ; Владимир Софиенко «Позывной «Америка», «Ангел», рассказы; Татьяна Окоменюк «Звезда Ютуба», «Социологический опрос», «No pasaran!», «Дежавю», рассказы; Дмитрий Зиновьев «Возвращённая молодость Михаила Зощенко», архивная публикация; Виктор Костецкий «Загадка Ф. де Соссюра о языке», филологическое эссе; архимандрит Августин (Никитин) «Религиозный уклад жизни петербуржцев. Часть 3», исторический очерк.
Постоянная тема прозы журнала «Нева» – современный человек на фоне истории. Показательна художественная публикация Елены Крюковой «Раскол. Книга огня». Говоря о событиях отечественного средневековья, о церковной реформе патриарха Никона, наша современница прибегает к древнерусскому жанру плача. Стон стоит по русской земле ввиду того, что вера дедов и отцов подвергается насильственной модернизации – вот о чём свидетельствует писательница, используя архаичную риторику плача. Однако при всей стилизации исторического сюжета под преданья старины, Крюкова художественно осмысляет никонианскую реформу на современный лад.
Так, в повествовании Крюковой спорадически возникают различимые признаки вполне современной силлабо-тоники и в то же время отсутствует силлабо-тоническая строфика – визуальное деление текста на ритмические единицы. Повествование, в котором автор часто переходит на стих, записано прозой.
Современное (хоть и имитирующее старинный слог) сочетание стиха и прозы у Крюковой по смыслу соответствует полюсам свободы и долга в произведении. Если патриарх Никон, который действует в соответствии с волей и установлениями тогдашнего царя, связывается с государственной необходимостью, то боярыня Морозова с её криком к Богу, напротив, практически отождествляется с личностной свободой. Эти два полюса религии в произведении Крюковой согласуются с полюсами войны и мира. Автор пишет (с. 14): «Чем страшна война и чем она важна? Да тем, что человек на ней, на войне, помирает! Его убивают, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Темно это. Вот этим война и исполняет волю дьяволю. Волю Адову. А у апостола-то сказано: где ти, смерти жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангели радуются на небеси!».
Батальная тема присутствует и в публикации Александра Рыбина «Фантомная боль», рассказ. В рассказе Рыбина описана война в Сирии, на фоне которой в повествовании возникает любовная линия. На конкретном историческом материале Рыбин воссоздаёт извечную соотносительность любви и смерти.
Тему войны и мира в журнале продолжает публикация Владимира Софиенко «Позывной Америка», «Ангел», рассказы.
В первом из двух рассказов подборки сюжет намеренно петляет, словно перемещаясь из будущего в прошедшее. Лейтмотив рассказа «Позывной…» – это воспоминания прадедушки героя Софиенко о войне, которая случилась когда-то давно. Повествуя о зигзагах истории, автор замечает (с. 129): «С прадедом плечом к плечу сражались его друзья со странными и даже немного смешными прозвищами. Были среди героев тех историй и «Чапай», и «Ташкент», и «Веселый». Все они погибли на братоубийственной войне».
Неумолимая логика братоубийственной войны (как сказано в произведении) подвигает автора прийти к центральной художественной идее рассказа (не связанной напрямую с сюжетом рассказа, но проиллюстрированной им). Софиенко воссоздаёт полный драматизма диалог былых участников военных событий; перед читателем являются старые друзья, стоящие по разные стороны баррикад, но способные вести диалог (с. 135):
«– Мы пытались перехватить наши переговоры, но до нас дошли лишь пустые обрывки, – Мишка говорил безразлично, как будто не придавал сказанному особого значения. – Когда после Кеши упал Юрас, я почему-то подумал о тебе, потом случайно по рации услышал позывной «Америка». Тогда меня осенило: это ты. Все на курсе знали твою козырную фразу. Даже размечтался, что встретимся с тобой, – Мишка криво усмехнулся, исподлобья посмотрел на старика.
– Но прежде тебе или кому-нибудь другому пришлось бы убить меня, – мрачно ответил Березин.
– Меня все время мучил вопрос: почему ты перешел к ополченцам? – равнодушно оборонил Мишка.
– Армия не должна стрелять в свой народ! – Америка в упор посмотрел на друга и по воле судьбы врага».
В смысловом центре рассказа – несколько парадоксальные взаимоотношения друзей-врагов. Они неожиданно и в то же время неизбежно напоминают хрестоматийно известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Поэт говорит о некоем давнем споре славян, о споре, в который не должны вмешиваться европейские народности, не знающие и не понимающие истинной природы славянства. Во всяком случае, такова внутренняя логика Пушкина.
Наш современник переосмысляет её в параметрах прозы. Если классик – Пушкин – поэтически живописует батальную героику, то наш современник средствами прозы показывает ужасы войны и свидетельствует о её неестественности для человека – существа, связанного с человечеством едва ли не семейными узами.
В рассказе «Ангел» Софиенко описывает мальчика, которого ангел-хранитель удержал от опасного падения. В своих беседах с ангелом любознательный мальчик пытается узнать, что такое война. Ангел не может сразу наделить мальчика всеми опасными знаниями, однако из рассказа понемногу выясняется, что война – состояние человека, чуждое райскому бытию.
Одной из вершин прозы журнала является подборка прозы Татьяны Окоменюк. В рассказе Окоменюк «Звезда Ютуба» описан молодой человек, который, говоря старинным слогом, склонен сибаритствовать, а говоря по-современному, склонен безвылазно сидеть в интернете. Там он свободно творит…
И что же происходит с молодым человеком? Выясняется, что его свободное существование пошло зависит от еды и денег, а они быстро кончаются. Тут-то и наступает кульминация человеческой трагикомедии героя Окоменюк! Он всё-таки спускает в ресторане последние деньги, поскольку поглощение пищи становится для персонажа формой выхода его психической энергии. Именно так: еда для персонажа не становится чем-то самодовлеющим, но становится эмоционально необходимой жизненной составляющей.
В результате телесный процесс приятия пищи и пищеварения, по существу, вытесняет из человека эмоциональные процессы; еда из средства поддержания в человеке жизненных сил превращается в своего рода самоцель. Средство и цель меняются местами… Вследствие чего персонаж Окоменюк противоестественно разбухает от еды. Здоровых сдерживающих механизмов не возникает там, где доминирует творческий беспорядок – величина в принципе идеальная, но на практике располагающая к телесной аномалии.
Напрашивается настолько же неожиданная, насколько и неизбежная литературная параллель. Советский классик Маршак в своей социальной сатире «Мороженое» окарикатуривает человека (или говоря языком минувшей эпохи, буржуя), склонного к гастрономическим излишествам. Как известно, персонаж сатиры Маршака – пресловутый буржуй – чрезмерный любитель мороженого превращается в сугроб. Маршак, советский классик, воссоздаёт метаморфозы, поэтические превращения своего героя; наша современница, работающая в прозе, избегает поэтических небылиц. К тому же, в отличие от Маршака, она говорит не столько о классовой природе ресторана (персонаж Окоменюк ходит в ресторан), сколько о психофизическом единстве человека. Герою рассказа Окоменюк (независимо от его классовых параметров, которые нашу современницу интересуют мало) даны и тело, и душа. Означенная двойственность подчас и сбивает человека с толку, что немудрено. Двойственную природу человека (едва ли исчерпывающе) пыталась постичь вся классическая философия от Декарта до Канта и далее… Не удивительно, что во взаимоотношениях души и тела запутался нетерпеливый и импульсивный молодой человек, наш современник…
В рассказе Окоменюк «Социологический опрос» остроумно показано, как формальный и беглый телефонный опрос, фактически закреплённый в качестве нормы, не отражает реальности, не фиксирует того, что происходит с человеком на самом деле. В аналогичном смысле бытовая идиома «Как дела?» не предполагает, что человек будет реально рассказывать, как у него дела. За означенной идиомой обычно следует краткое и бессодержательное «Хорошо».
Нет необходимости добавлять, что героиня рассказа, работающая в социологической службе, постоянно занята – и у неё просто нет времени реально интересоваться реальными людьми. Ей важно поставить «нужные» галочки.
Однако персонажи рассказа – он, которого опрашивают, и она, которая опрашивает, неожиданно прорываются сквозь частокол канцелярских условностей. Это не значит, что они находят друг друга именно как мужчина и женщина, но между ними неожиданно возникает тёплый человеческий контакт. Что именно происходит с собеседниками вопреки вероятности? Об этом можно узнать, прочитав рассказ.
В рассказе Окоменюк «No pasaran!» описана немецкая клиника. Вопреки стереотипному представлению о Европе как о средоточии едва ли не буржуазного благополучия немецкая клиника показана в рассказе нелицеприятно. Врачи обращаются с больными практически как надсмотрщики (ни шагу назад), любая мелкая услуга – например, телевизор в палате – стоит ощутимых денег и к тому же – санитарно-гигиеническая обстановка в клинике постоянно оставляет желать лучшего. Невыносимая атмосфера клиники лишь усиливается неизлечимой болезнью, которую диагностируют героине рассказа. Однако сила души помогает ей не только выжить, но и обрести счастье.
Завершает подборку рассказ «Дежавю», сюжетно воспроизводящий «Даму с собачкой» Чехова. Как и у Чехова, у нашей современницы завязка головокружительного романа происходит в душистом Крыму. Волшебная обстановка Крыма – и у классика, и у нашей современницы – способствует яркой любовной истории.
Неукоснительно следуя за классиком, Окоменюк вполне буквально воспроизводит чеховскую коллизию: он и она доходят в любви до самозабвения, но продолжению сердечного праздника препятствуют банальные обстоятельства: у него где-то на стороне имеется благополучная семья. Поступаться семьёй персонаж рассказа не хочет.
Здесь-то и возникает (выражаясь языком литературоведа Бахтина) коперников переворот, который производит наша современница в чеховском сюжете. Если персонаж Чехова проявляет себя как пылкий романтик, то молодой человек, изображённый в рассказе Окоменюк, заявляет о себе как скучный практик, благополучие семьи (а также его собственное благополучие) ему важнее любовных фантомов.
Женщина, естественно, в негодовании, самолюбие её задето, ею грубо пренебрегли… Однако жертвой извечного коварства, неизбывных превратностей любви неожиданно становится не она, а он. В противоположность Чехову – и независимо от него – наша современница выстраивает сюжет, в котором герой несколько парадоксально становится заложником и жертвой собственного донжуанства.
Она со временем создаёт благополучную семью, тогда как он с роковым опозданием осознаёт, что подобно пушкинскому Онегину упустил своё счастье. Если Онегину обрести счастье помешала приверженность к постылой свободе, то герою Окоменюк стать счастливым помешала излишняя практичность. Как конкретно развивается авторский сюжет, что именно происходит с персонажем, можно узнать, прочитав рассказ.
При всём художественном остроумии Татьяны Окоменюк, которая заявляет о себе едва ли не в качестве литературной соперницы Чехова, всякий литературный ремейк в той или иной степени вторичен по отношению к подлиннику. Так, и «Энеида» Вергилия есть остроумная перелицовка гомеровской «Илиады».
Едва ли не вся мировая литература состоит из ходячих сюжетов. Писательский талант заключается, однако, в том, чтобы сделать неизбежные литературные влияния неузнаваемыми. Так, Пушкин преодолевал Байрона, пережив увлечение его поэзией… Видимо, и нашей современнице предстоит преодолевать то, что писалось до неё и вошло в фонд мировой классики.
Романтика Крыма, некогда воссозданная Чеховым, присутствует и в публикации Алексея Панографа «Последний караим. Киносценарий».
На крымском повествовательном материале автор являет читателю вечные ценности: благородство, самопожертвование, альтруизм. Герой повести обнаруживает рыцарственные признаки в своём эротическом поведении. Он проявляет истинное бесстрашие. Он защищает девушку от опасности. В смысловом потенциале он – рыцарь, а она – его дама сердца. И неважно, что внешне он напоминает современного байкера, а молодые люди, которые преследуют девушку, – банальных хулиганов. Вечные сюжеты могут реализоваться на современном материале, как это и происходит в киноповести Панографа.
Автору не чужд некоторый мелодраматизм, впрочем, он внутренне мотивирован (и художественно оправдан) поэтикой кино. По её законам даже доля намеренного схематизма в изображаемых автором характерах как бы окупается глубиной повествовательного ландшафта. В своей киноповести Панограф вслед за Окоменюк воссоздаёт яркую экзотическую природу Крыма.
Завершает рубрику «Проза и поэзия» подборка произведений прозы Йосси Кински: «Погода любви», «Последняя фотография», «Романтик».
В первом из рассказов подборки «Погода любви» содержатся перекрёстные мотивы. Персонажи рассказа, живущие в Америке, испытывают ностальгию по России, из которой они эмигрировали в 90-е годы. Тоска по Родине, присущая персонажам, связывается с их тоской по девушке, которую герои Кински некогда оставили на Родине и не могут забыть. Тем самым девушка и Родина без ненужных риторических блёсток ставятся в один ряд. Второй из рассказов подборки «Последняя фотография» посвящён роковой женщине, которая играет не только сердцами, но и судьбами. Случайно ли эрос и смерть идут рука об руку? Третий из рассказов подборки «Романтик» художественно иносказательно и в то же время узнаваемо свидетельствует о том, что излишняя настойчивость молодого человека в определённых случаях может произвести на девушку отталкивающее впечатление.
Если прозе журнала «Нева» в целом сопутствует поэтика натурализма, то Кински работает в литературно иносказательном, отчасти даже в притчеобразном русле.
К прозе, вошедшей в рубрику «Проза и поэзия», примыкает рассказ Владимира Яроша «Урок памяти» из рубрики «Вселенная детства». Советское ретро, советское детство, в котором живы свидетельства о Великой Отечественной войне, – всё это присутствует в рассказе Яроша. Особое место в рассказе занимают взаимоотношения главного героя – мальчика-подростка – с отцом, от которого в школе ждут фронтовых рассказов, поскольку ранее в школу приходят сведения о том, что отец мальчика участвовал в войне. Достоверны ли эти сведения и что отец мальчика может рассказать о войне, – об этом можно узнать, прочитав рассказ Яроша.
Проза журнала – не есть просто совокупность текстов, написанных без рифмы и размера. Иначе пришлось бы согласиться с известным мольеровским персонажем, некогда заявившим: «Мы все говорим прозой». Учитывая наивность данного заявления, невозможно не отметить некоторые текстовые параметры и смысловые принципы, которые взаимно сближают прозаиков журнала. Проза «Невы» ориентирована на человека. Он предстаёт не абстрактно, а конкретно – в своей психофизической данности (достаточно вспомнить рассказ Окоменюк «Звезда Ютуба»). Однако в своей почти медицинской достоверности феномен человека на страницах журнала не носит некоего самодовлеющего характера. Человек явлен на фоне истории. Не случайна тема войны в Сирии у Рыбина; не случайны и другие исторические темы, которые затрагивают прозаики журнала.
Историзму, присущему прозе журнала, в некоторой степени противостоит поэтическая вечность (хотя и она сложно соизмерима с историей). Тем не менее, поэзия журнала – в отличие от прозы «Невы» – ориентирована не столько на человека в истории, сколько на стихии бытия, довлеющие над человеком. «С Божьею стихией царям не совладать», – говорит царь в «Медном всаднике» Пушкина, в этом непревзойдённом образце петербургского эпоса. И поэты «Невы» воссоздают не столько человека, сколько таинственные стихии, которым он подвластен. Поэзия подчас имеет дело с нечеловеческими силами, чего невозможно с той же определённостью сказать о прозе.
И вот что примечательно: тайны бытия в отличие от повседневной жизни встречаются отнюдь не на каждом шагу. Они заведомо редки. Не потому ли в текстовом корпусе журнала проза количественно преобладает над поэзией? Так, в оглавлении 9-го выпуска «Невы» за минувший год зафиксировано 7 публикаций прозы и всего 3 поэтические публикации.
Рубрику «Проза и поэзия» открывает подборка стихов Евгения Попова. Попов стремится создать тип поэзии, в котором алогические связи явлений преобладали бы над логическими. Поэт не стремится отказаться от смысла (что было бы, очевидно, излишне), однако он ищет нелогических закономерностей, ассоциативных смыслов современной жизни. Попов пишет (с. 3):
Еще зарю огнеупорную.
Автор не сообщает читателю, какой визуальный эффект следует из взаимоналожения различных цветов. Уход поэта из оптической плоскости свидетельствует о том, что он угадывает в бытии не цветовые, но ассоциативные закономерности. К различным цветам он добавляет зарю.
В целом же цветовая гамма Евгения Попова свидетельствует о том, что поэт взаимно соизмеряет сдержанность и интенсивность бытия. Не случайно сдержанный серый цвет у Попова сложно контрастирует с яркими цветами – например, с белым.
Поэт продолжает (там же):
Мы вынем пристальные мелочи.
Вглядываясь в эти пристальные мелочи, Попов приходит к противоречивому синтезу силы и сдержанности (там же):
Нематериально-идеального.
Любопытно, что при всей диффузной структуре, при всей смысловой расплывчатости того, что не имеет опыта, поэт свободен от созерцательности и одержим энергией. Путём анафорического повтора автор выражает обращённый к читателю призыв к действию: положим, заварим, отпустим и др. Благодаря своему деятельному началу, склонности к выразительному лирическому жесту наш современник обнаруживает литературное родство с ранним Маяковским.
У него Попов заимствует и узнаваемую долю абсурдизма, и в то же время – тенденцию включить случайно хаотические явления мира в единый осмысленный поток бытия.
Попов пишет (с. 4):
Мы даже видимо зайдем с тобой в «Икею».
Напиться и протрезветь – значит обнаружить жизненную энергию. Динамика личности, стихийный поток бытия у Попова как бы вбирают в себя вполне современные реалии – например, «Икею».
Одна из творческих – и личностных – задач Попова – смиренное принятие абсурда. Другая авторская задача Попова – скрытое преодоление абсурда путём его внешнего приятия (парадоксально, но факт!).
Подобно раннему Маяковскому наш современник стремится сочетать абсурдный юмор («Икея» – средоточие мелкого вещизма) с лирической патетикой – с желанием успеть напиться.
И всё же глубина поэзии пребывает не столько в реалиях времени, таких, как «Икея», сколько в духе эпохи. У Попова – рискнём это утверждать – имеется зазор для роста, для движения в глубину.
Если проза журнала, как было заявлено, являет человека в его психофизическом единстве, то поэзия «Невы» – и прежде всего, поэзия Попова – контрастно являет нам логические и нелогические смыслы бытия.
В стихах Евгения Попова обитает подчас алогическая энергия, которая контрастирует с поэтическими умозрениями Тима Францисти. В журнале опубликованы его стихи.
В противоположность Попову с его яркими ритмами и главное, мощными авторскими интенциями Францисти намеренно созерцателен и склонен к лирической медитации.
Францисти пишет (с. 177):
и пить мелодию чужих материков…
Благородная статика поэта связывается с его причастностью к истории Петербурга – к явлению внутренне динамичному, но изъятому из потока повседневных явлений, а значит, всё-таки свободному от суеты.
Если персонажи прозы журнала являются заложниками, а подчас и жертвами истории, то лирический персонаж Францисти парит наравне с таинственным гением Петербурга – этого величественного имперского гиганта.
В другом стихотворении Францисти пишет (там же):
памяти неземной.
Если авторская интенция Евгения Попова – совершить нечто радикальное и впечатляющее, то авторская интенция Тима Францисти – не спешить, осмотреться и подумать обо всём сущем.
Если Попов включён в поток современности, то Францисти несколько отрешён от него и значит, внутренне одинок подобно Байрону или Бродскому.
Не потому ли наш современник – Тим Францисти – порой намеренно статичен и вкрадчиво созерцателен?
В рубрике «Проза и поэзия» имеется также публикация Лилии Газизовой «Эрджиэс». В сноске автор поясняет: «Эрджиэс – большой стратовулкан в Турции» (с. 126).
Единый цикл Газизовой, посвящённый величественной горе (несущей человеку некоторую опасность), строится как поэтическая тема с вариациями.
Поэт пишет (с. 126):
Несовершенна без тебя.
Всего в цикле Газизовой 10 пронумерованных строк, посвящённых одному космическому явлению, именуемому Эрджиэс.
Творчески симптоматично, что Газизова обращается не к человеку, а к вулкану. Как и другие поэты «Невы», она занята не столько человеком, сколько бытием.
Попутно на память приходят и лермонтовские иносказания, в которых природа порою наделена некоторыми гендерными признаками: «Ночевала тучка золотая / На груди утеса великана».
К «Прозе и поэзии» прилагаются научные и научно-публицистические рубрики. Так, в рубрике «Публицистика» помещена публикация Дмитрия Зиновьева «Возвращенная молодость Михаила Зощенко».
Публикация представляет собой снабжённую кратким авторским предисловием стенограмму дискуссии, которая возникала вокруг книги Зощенко «Возвращённая молодость». (Дискуссия велась в 1934 году в солидном медицинском учреждении).
История вопроса такова: в своей книге Зощенко затронул некоторые медицинские темы подобно тому, как нынешние прозаики, публикуемые в «Неве», говорят о человеке в его психофизическом единстве.
Книга Зощенко, выражаясь советским языком, привлекла внимание научной общественности и вызвала множество интереснейших вопросов. В ходе дискуссии были затронуты такие темы, как природа гения и природа безумия. В том же медицинском контексте обсуждался ранний уход Маяковского из жизни.
Опубликованный Зиновьевым исторический документ интересен не только личностно, но также эпохально. По стенограмме дискуссии видно, что в 1934 году всё ещё существует культура интеллигентных дискуссий – наследие старорежимного образования и старорежимной профессуры. Однако инфернальные зигзаги истории неуклонно ведут к тому, что лестное для писателя внимание к нему постепенно переходит в навязчивую опеку и неусыпную слежку за писателем. Ей сопутствует та подозрительность и настороженность, которые впоследствии становятся постоянным фоном жизни писателя в Советской России.
В рубрике «Критика и эссеистика» опубликовано филологическое эссе Виктора Костецкого «Загадка Ф. де Соссюра о языке».
Систематически ссылаясь на Соссюра, наш современник пишет о двойственной природе всякого числа. Например, если мы помыслим три яблока или три чашки, то яблоки или чашки будут вариативными и абстрактными по смыслу, тогда как число три останется точным и непреложным в своей неизменной конкретности.
Но, с другой стороны, продолжает Костецкий, число три у эллинов было окрашено геометрически, а у арабов оно осмыслялось иначе.
Более того, число три в языке по своему значению зависит от контекста, хотя и остаётся неизменным в алгебраическом смысле. Например, три волоса на голове – мало, а три волоса в супе много, остроумно замечает Костецкий. Здесь мы не наблюдаем постоянной величины!
Таким образом, три как число неизменно, а три в качестве языкового знака зависит от контекстуального поля словаря.
Любопытные и проницательные наблюдения Костецкого за числом, с одной стороны, и знаком – с другой, а также итоговые дефиниции филолога свидетельствуют о том, что язык и речь заранее задают нам некоторую картину мира. Три – это много или мало? Ответ на вопрос зависит не столько от нашего эмпирического опыта, сколько от языкового поля, к которому мы принадлежим.
Перифразируя Костецкого в русле постмодернизма, остаётся заключить, что язык – это гипертекст, а не просто «набор слов». Значит, всякий живой и действенный язык как бы навязывает реальности свои собственные ценностные параметры. (Впрочем, слово «навязывать» в данном случае не имеет никаких оценочных коннотаций; речь идёт лишь о том, что язык неизбежно влияет на присущее человеку восприятие мира).
Помимо концептуальной рубрики – «Критика» – журнал содержит информативные рубрики. К ним относится «Петербургский книговик».
Первая публикация расположена в подрубрике «Книговика» «Территория памяти»: Татьяна Ясникова «Поцеловал бы землю…». Основываясь на биографии русского художника Фёдора Васильева, написанной Андреем Румянцевым, Ясникова пишет о Васильеве как о художнике, который внутренне рос вопреки трудным жизненным обстоятельствам.
Ясникова настолько же неожиданно, насколько и мотивированно сравнивает Васильева с Лермонтовым – ещё одной романтической натурой. Так, Ясникова отмечает, что Васильев подобно Лермонтову на протяжении жизни не растратил юношеский пыл…
Вторая публикация расположена в подрубрике «Книговика», озаглавленной «Искусство чтения»: Калле Каспер «Джеймс Джойс как субъект и объект религии». Вопреки общепринятому представлению о Джойсе как о классике Каспер резко критикует Джойса – например, ставит ему в упрёк излишнюю повествовательную эклектику в «Улиссе». Каспер считает, что произведение, написанное в разных тональностях (и лишённое художественной целостности) в состоянии переложить лишь целый коллектив переводчиков. Для одного переводчика такая задача чересчур утомительна, считает Каспер.
Джойсу достаётся от него и за другие произведения. Так, «Портрет художника в юности» Каспер считает вещью незрелой и подростковой. Также автор публикации о Джойсе утверждает, что тот, создавая «Портрет», явил читателю не столько художественную силу, сколько рефлексию подростка на религиозную тему.
Ниспровергая общепринятое представление о том, что Джойс гений, Каспер находит его слабым писателем и упрекает в неплодотворной рассудочности.
Заключительные публикации рубрики «Петербургский книговик» принадлежат авторству Елены Зиновьевой. Они расположены в подрубрике «Книжный остров».
Зиновьева выступает как автор двух заметок. Первая из них о книге: Ильма Ракуза. Одиночество с раскатистым «р»: Рассказы. Пер. с нем. В. Агафоновой. СПб.: Алетейя, 2021.
Зиновьева утверждает, что в творчестве немецкой писательницы воссоздаётся частная жизнь. Однако она понимается не в социально типическом русле, а в русле сокровенной тайны человека и его страданий. Разумеется, тайна не равняется страданиям. В принципе возможно страдание без тайны, которая в свою очередь не подразумевает непременно страдания. Однако в контексте заметки Зиновьевой между двумя указанными словами возникает контекстуальная синонимия. Речь идёт не вообще о всяких неприятностях, которые могут постичь человека, а о его сокровенных страданиях. На церковном языке они называются внутренними скорбями. Так, потеря энной суммы денег – это значимая, но внешняя проблема (в деньгах нет ничего сокровенного), тогда как, например, тайно изнывать – значит, испытывать особую сокровенную боль (а не вообще какую-либо трудность или неприятность).
Итак, Зиновьева говорит о современной немецкой писательнице в русле её литературного внимания к сокровенной тайне человека, которая нередко сопровождается страданием.
Следующая заметка Елены Зиновьевой написана о книге: Алла Пальчикова. В окружении красоты. Воспоминания музейного работника. Под редакцией Г. Филатовой. 2-е изд. Симферополь: Н. Орианда, 2021. (Серия «Музейные мемуары»).
Как нетрудно заключить из названия рецензируемой книги, речь идёт о музейной деятельности, которую Пальчикова, автор книги, вела в Крыму.
Следуя мыслью за Пальчиковой, Зиновьева пишет и о некоем украинском фрагменте (или рабочем эпизоде) её деятельности. Зиновьева сообщает (с. 240): «Увиденное – выставка украинского народного декоративно-прикладного искусства – шокировало. Экспонаты были чудесны, но в интернет не вписывались».
Остаётся добавить, что крымская тема (территориально граничащая с украинской темой) присутствует не только в художественной прозе «Невы», но и в научной части журнала – в рубрике «Петербургский книговик» (подрубрика «Книжный остров»).
Завершает 9-й выпуск журнала «Нева» за 2022 год постоянная рубрика журнала «Пилигрим». В ней помещена следующая публикация: Архимандрит Августин (Никитин) «Религиозный уклад в жизни петербуржцев. Часть 3». (Очевидно, предыдущие части опубликованы в предшествующих выпусках «Невы»).
На множественном библиографическом материале автор публикации рассказывает как о погребальных обычаях в жизни петербуржцев, так и об особом, петербургском отношении к смерти.
Работа уникальна по своей теме и написана академически безупречно.
В смысловом центре прозы журнала «Нева» – человек на фоне истории. Череда эпох придаёт особый масштаб явлению человека. С ним связываются такие антитезы, как долг и свобода, справедливость и милосердие, законность и личностное начало. Словами Пушкина, оно подчас является как беззаконная комета в кругу, расчисленном, светил…
Универсальный – и почти ренессансный – человек является во множестве внутренних измерений. Их взаимный контраст как бы иллюстрирует неизмеримость человека и в то же время его подотчётность высшим силам.
И если проза журнала в чеховском русле посвящена собственно частной жизни, то поэзия журнала – это художественное свидетельство об окружающих человека судьбоносных силах, будь то дух времени или поток бытия.
За множеством журнальных публикаций в прозе и в поэзии угадывается их единое (или всё-таки двуединое) соотношение. Персонажи прозаиков, публикуемых в журнале по-человечески понятны, тогда как поэты журнала тяготеют к зауми, поскольку пишут не только о человеке или вообще не о человеке – они говорят о явлениях гораздо менее понятных, нежели homo sapiens.
Проза журнала – это повествование о частном бытии, которое просто, тепло и понятно, чего нельзя сказать о множестве предметов современной поэзии. В отличие от прозы «Невы» поэзия, публикуемая в том же журнале, устремлена к иерархическим высотам бытия – к тому, что над человеком.
Журнал «Нева» отражает феномен человека в прозе, но сохраняет такую иерархию мира, при которой поэзия, чьим предметом является нечто, существующее над человеком, стоит выше прозы.
Выбирать между житейски тёплым миром прозы и холодноватыми высотами поэзии предоставляется читателю. Случайно ли, что высоко в горах гуляет ветер и бывает холодно, а в земных низинах бывает тесно душе? Одним ближе наша прекрасная земля, другим – заоблачные выси, и не приходится говорить о том, что «хорошо», а что «плохо» в оценочном смысле.
В текстовом и смысловом корпусе журнала «Нева» поэзия и проза друг друга контрастно дополняют, создавая универсальную диаду: человек и властные над ним стихии бытия. Человек волен или бороться с ними, хотя словами Тютчева «борьба безнадежна», или покоряться им. Разумеется, человек может следовать и третьим путём: частично бороться с судьбой, а частично – следовать её велениям. Художественная литература, публикуемая на страницах «Невы», являет читателю контрастную соотносительность фатализма и личностного своеволия в человеческом опыте. Причём не всегда человек, который тягается с судьбой, склонен к простым и понятным крайностям. Человек – существо подчас непредсказуемое – свидетельствуют художественные публикации «Невы».
Наличие у человека и человечества множества жизненных возможностей свидетельствует о неизмеримости бытия и неизмеримости человека как явления. Этим двум беспредельностям и посвящён журнал «Нева». Его смысловое поле поистине неисчерпаемо…
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети