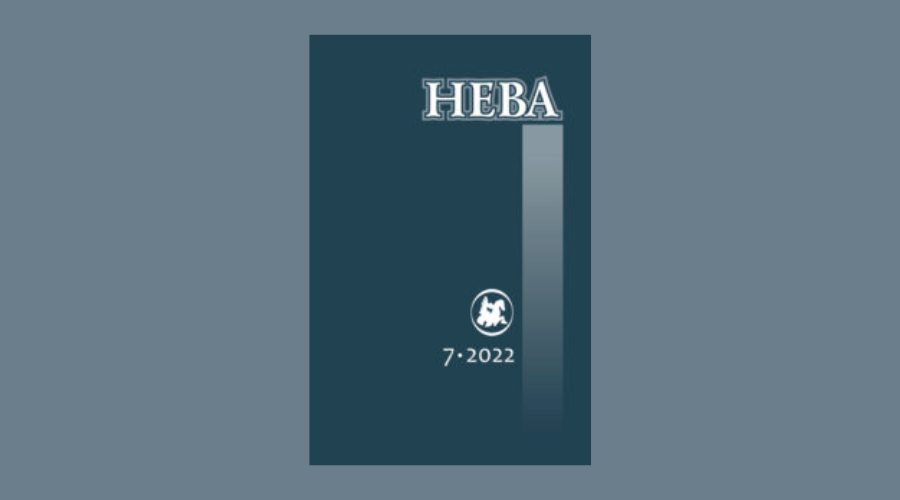«Нева» № 7, 2022
Литературный журнал «Нева» издаётся в Санкт-Петербурге с 1955 года. Периодичность 12 раз в год. Тираж 1500 экз. Печатает прозу, поэзию, публицистику, литературную критику и переводы. В журнале публиковались Михаил Зощенко, Михаил Шолохов, Вениамин Каверин, Лидия Чуковская, Лев Гумилев, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Фёдор Абрамов, Виктор Конецкий, братья Стругацкие, Владимир Дудинцев, Василь Быков и многие другие.
Главный редактор — Наталья Гранцева, зам. главного редактора - Александр Мелихов, шеф-редактор гуманитарных проектов - Игорь Сухих, шеф-редактор молодежных проектов - Ольга Малышкина, редактор-библиограф - Елена Зиновьева, редактор-координатор - Наталия Ламонт, дизайн обложки - А. Панкевич, макет - С. Былачева, корректор - Е. Рогозина, верстка - Д. Зенченко.
Воспоминания как ресурс, лекарство, поддержка
7-й номер журнала «Нева» за 2022 год открывается пронзительно-острой подборкой стихов Анны Долгаревой. Подборка объединена вечными темами жизни и смерти, экзистенциального одиночества человека, его бесприютности, поиска утешения и смысла, стоящего за всем этим. О том, что болит, просит голоса и звука. Даже не-одиночество у Анны Долгаревой трагическое, хрупкое, уязвимое. Кажется, говорить о таком, вытаскивать с самого дна души – и слов-то таких не хватит, а у поэтессы – есть! Вот они!
Открывается подборка пронзительной историей русских Бонни и Клайда – атамана Пашки и его жены Алены. По-своему архетипическая история с предсказуемым финалом. Автор интересно работает с местоимениями. Начинается стихотворение с полной идентификации лирической героини с главным действующим лицом через местоимение 1-го лица: «Снилось мне, что я – атаман Пашка». Дальше я заменяется на ты: «Да идут по следу государевы люди, поспешай от них, атаман».
И уже под конец происходит максимальное дистанцирование через местоимение 3-го лица:
атаман Пашка с женой Аленой, ладонь в ладонь.
Но при этом дистанцировании личное, частное удивительным образом превращается в надличностное и надчеловеческое:
потому что это любовь, не умирающая никогда.
Продолжение подборки вызывает ассоциации одновременно с мифом о творении Богом человека и со стихотворением Маршака «О мальчиках и девочках», больше известном первой строчкой: «Из чего только сделаны мальчики?». Это сочетание смыслов создает особую, пронзительную тональность, не оставляющую равнодушным.
Из святочного старого поверья.
Из каждого стихотворения хочется что-то процитировать, но завершу обзор подборки лишь одним отрывком – пронзительным и глубоким переосмыслением всем знакомой колыбельной о сереньком волчке, как утешителе сирых, утолителе тоски:
и выест он бессмысленный мой живот.
Следующая поэтическая подборка «Невы» принадлежит Константину Комарову.
Его стихи напоминают импрессионизм. Перед нами яркие мазки, световые пятна, которые складываются в зарисовки внутреннего мира поэта-творца и описание процесса стихотворчества.
бумаги действенное тело.
Поэт активно использует звукопись, аллитерацию, яркие метафоры, играет смыслами, образами и формами.
и от браминов голова.
Стихотворная подборка Дарьи Ильговой «Простые вещи» посвящена поиску своего места в мире и извечному конфликту личности со средой обитания, социумом. Лирическая героиня отвергает суету, насилие и безразличие большого города, «сложные вещи».
Жизнь на ладони, как стеклышко, вся видна.
Разрешение конфликта лирическая героиня находит в уходе – к природе, прошлому, «простым вещам».
И свет от этих простых вещей.
Продолжает поэтический раздел «Невы» подборка Яниса Грантса. В его лирике и философские размышления о жизни и судьбе, и поиски Бога, и сказка для девочки-бабушки, и Невский проспект, переплетающий прошлое и настоящее.
собчак с билборда МТС.
В поэтической подборке Дмитрия Пескова переплетаются детство и взрослая жизнь, домашнее, личное и социально-общественное. Лирический герой словно застрял между двумя мирами. Неповторимое полотно текста создается переплетением контекстов, слов из разных языков.
что из костей хлеба
Переходим к прозе. Центральную часть журнала занимает философский роман-оммаж Антона Рая «М.Ю.Л.». «Оммаж» здесь едва ли не основное, что нам следует знать об этом тексте. Автор в нем признается в любви чуть ли не всей литературной классике (не забывая и классику советского кино). В первую очередь, конечно, русской. В первую очередь, конечно, Достоевскому.
Когда начинаешь читать этот роман, вспоминается совет из какого-то пособия для писателей: чтобы улучшить свой стиль, нужно переписывать книги любимых авторов – слово за словом, буква за буквой, запятая за запятой. Не удивлюсь, если роман вырос именно из такого упражнения. Первая глава «М.Ю.Л.» шаг за шагом следует за «Идиотом», отступая лишь в деталях и перенося действия в современность. Маркером времени служит упоминание доковидной эпохи. Очень узнаваемо знакомство в поезде и последующий разговор «двойников» князя Мышкина, Рогожина и Лебедева.
После прибытия героев в Петербург сюжетные линии «М.Ю.Л.» и «Идиота» все больше расходятся, но остается оммаж, а значит, многочисленные аллюзии, отсылки, парафразы и рерайтинг известных литературных и кино- оригиналов. Это касается не только конкретных цитат, но и имен, и целых сюжетных линий, как видно с самого начала.
Автор любит и очень хорошо знает литературу (и советский кинематограф), и от своего читателя ждёт того же. Роман похож на интеллектуальную игру для филологов, литературоведов и просто любителей классической русской словесности. Писатель как бы спрашивает читателя: «Угадаешь, откуда это взято?». «М.Ю.Л», конечно, сопровожден множеством поясняющих сносок. Но Антон Рай и здесь продолжает играть: опускаешь глаза, чтобы узнать источник цитаты и встречаешь что-то вроде «ну это и так всем известно, так что нет необходимости уточнять».
В то же время автор словно сам над собой подшучивает и разоблачает устами главного героя, осуждающего цитирование, оммажи и интертекстуальность:
«– Мерзко все это.
– Что именно мерзко?
– Всякое там цитирование, оммажи и прочий плагиат. Есть что сказать – говори; нечего сказать – цитируй тех, кому сказать было что. А лучше так и вовсе помалкивай.
– Сурово. Но тут вы не правы. С цитированием и интертекстуальностью все посложнее будет.
– Ничего сложного. Есть что сказать – говори сам, нечего сказать – цитируй других».
Прозаический раздел номера продолжает повесть Анатолия Бимаева «Ретроградный Меркурий». Перед нами показанные от первого лица будни перекупщика подержанных автомобилей. Действие начинается за несколько месяцев до ковида. Следуя за главным героем, погружаешься во все эти профессиональные подробности и рассуждения о прибыли и расходах, и думаешь, что так будет до самого конца. Но постепенно рассказ о буднях человека, который, по его собственному признанию, «занят семь дней в неделю поисками халтуры, на которой можно срубить побольше бабла», начинает обретать неожиданный объем и красоту. За счет лирических отступлений, размышлений героя и его способности образно и глубоко погружаться в суть обыденности повествование словно распадается на два уровня: действия и бытия.
«Вскоре мы оказались снаружи, среди бесконечных рядов бывших в употреблении автомобилей. Машин второй свежести. Машин-пенсионеров. Они так долго колесили по разбитым направлениям нашей страны, что втайне, должно быть, мечтали о прессе. Голубая мечта молодости, свято веря в которую они когда-то сошли с заводского конвейера, теперь, вероятно, вызывала у них только улыбку, горькую, как не менявшееся сорок тысяч километров моторное масло. Мечта о гладких, как зеркало, автострадах, завораживающих дух серпантинах и нежно щекочущих покрышки гравийных дорогах, идущих мимо кукурузных полей и будто бы нарисованных добрым художником American village, – все это было планомерно выбито из их еще не прошедших обкатку поршней пинками и апперкотами беспризорной российской дороги. Сотни тысяч пройденных километров сейчас явственно читались на их выцветших, десятки раз перекрашенных и зашпаклеванных, изможденных телах».
Главный герой размышляет о разводе, покупателях, Москве, искусстве, дороге. И хотя все это обыденно и повседневно, порой в его выразительных пассажах проглядывает лиричность и красота, позволяющие говорить о поэзии в прозе. Подобные отступления создают дополнительное и очень важное измерение текста.
«Разве может быть что-то лучше дороги? Когда ты едешь и едешь вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы заправить машину и перекусить. Под Нижним Новгородом будет утро, под Уфой – ночь. И бог его знает, где найдет тебя снова солнце? В Кургане или, быть может, в Омске? Или ты пробьешь колесо и встретишь рассвет в Башкирии, глотая кружками черный кофе в придорожной столовой.
Только в такие моменты чувствуешь себя по-настоящему свободным, как первый человек на Земле. Перед тобой великая страна без конца и края, страна-исполин, настолько огромная, что гони машину хоть целыми сутками, а противоположного края все равно не достигнешь. Тайга сменится равниной, равнины – горами, горы – тайгой, а дорога, как прежде, будет упрямо вести к горизонту. И пусть в какой-то момент придет страх, что ты не осилишь всего расстояния. Пусть в голове от усталости начнут путаться мысли, спина затечет, а пятая точка превратится в доску. И мир сократится до дорожной разметки и знаков. Пускай! Ведь страх и усталость – тоже свобода.
И пробитое колесо. И оборвавшийся ремень генератора черт его знает в какой глухомани. И гололед на перевалах Урала с ушедшими в кювет фурами, в то время как ты на летней резине. Бодрящий, как нашатырь, дух авантюризма, столь редко встречающийся в обывательской жизни, что за него можно принять воскресные походы в кино и ссору с кассиром «Пятерочки». Тот самый авантюризм, толкавший Колумба плыть в неизвестность на запад. Не ради денег и славы, во всяком случае ради них не в первую очередь. А ради ощущения полноты бытия. Самого мощного ощущения, испытав которое однажды ты уже ни за что не захочешь влачить оседлое существование».
Рассказы Урмата Саламатова «Тетя» и «Джинсы» написаны как безыскусные воспоминания детства и отрочества. «Тетя» – история неблагополучной семьи глазами пятилетнего мальчика. Лишь тетя способна смягчать для него обыденный домашний кошмар. Но она покидает ребенка по воле тяжелой болезни. Второй рассказ «Джинсы» – душевное подростковое воспоминание о детском лагере и первой любви.
Подборка рассказов Александра Пяткова дарит нам прозу ароматную, как запах яблок зимой, тягуче атмосферную, наполненную волшебством, ткущимся из силы мелочей и власти памяти. И этим тексты напоминают одновременно Маркеса и Паустовского. Рассказы Александра Пяткова не столько сюжетны, сколько описательны, неспешно-созерцательны. События скорее происходят с героями, чем инициируются ими. Персонажи погружены в пространство памяти, как в живую воду.
Память здесь является отдельным живым измерением, а способность помнить – ещё одним органом чувств.
Другим объединяющим элементом рассказов Александра Пяткова является железная дорога. Она здесь и «дней связующая нить», сшивающая пространство и время, и символ жизненного пути. Герои едут – просто на работу или чтобы начать новую жизнь. И плывут во времени от одного островка памяти к другому, чтобы вернуться в настоящее. И в место, откуда выехали.
Рассказов много, о каждом хочется говорить долго, подробно, со множеством цитат. Остановлюсь лишь на двух.
«Студенческий билет» – неспешное, очень атмосферное и поэтичное повествование про нежданно обретенное и снова потерянное чудо, разделившее жизнь на до и после. Красивая и печальная история захватывает, завораживает, западает в память.
«Грязных пальцев несколько раз что-то коснулось, но он не заметил. И когда запоздало опустил голову, чтобы прикрыть зевок, увидел, что на руки падают развевающиеся от ветра женские волосы. Волосы были волшебством. Их можно было намотать на палец, поцеловать, понюхать, отрезать на память, в конце концов, будь ножницы. Волосы плыли, струились по рукам. Приближалась Рассветная, а железнодорожник никак не мог оторвать руки от поручня».
«Рождество» – еще один рассказ с, казалось бы, простым сюжетом (герой живет на юге и перебивается случайными подработками), где главным действующим лицом, по сути, опять же оказывается память о невозвратно ушедшем, потерянном навсегда.
«В комнате всегда пахло яблоками. Особенно сильно запах чувствовался с мороза: легкий, с молодой прелью, стоящий над дощатым полом комнаты. Стоило только войти в дом, как тут же мешались носимые в воздухе подголоски скрипучей обитой двери, зимнее дыхание и запах яблок – легкоуловимый и куда-то зовущий.
Яблоки лежали на подоконнике, между цветочными горшками. Дров для печи не жалели, в избе катался жар, напоминая о летнем времени, в котором так хорошо и легко жилось. Яблоки лежали в трех миллиметрах от замерзшей, выдуваемой улицы с метущимися над горстями домов дымами. (...)
По праздниками Георгий напивался. И, как всегда, говорил о яблоках, но то были какие-то другие: горящие, черные, пожженные, валяющиеся на земле, гниющие плачущей гурьбой. И пахли яблоки тяжело и свинцово. Но когда-нибудь наступала зима, и в жарко натопленном доме я слушал рассказы о далекой стороне. Странным и непонятным стал мир, когда рассказы эти закончились. Потом не стало яблок, потом захирели деревья. А после и жизнь пошла другая. И только мелькала в памяти теплая и счастливая Кахетия».
Рассказы Александра Олексюка «Дверной глазок» и «Вагон-ресторан») ценны тем, что, отталкиваясь в начале от обыденно-неблагополучной реальности, под конец они все же приводят читателя к выходу, снятию накопившегося напряжения, хорошему решению. При чем это происходит не фальшиво-наигранно, а естественно вытекает из логики текста. Неожиданные повороты простых, казалось бы, сюжетов, яркий, образный язык.
В «Дверном глазке» бытовая история (ночные скандалы у соседей, мешающие спать) постепенно обрастает странностями и детскими страхами, потихоньку обретая налет сверхъестественного. Переезда загадочных соседей никто не видел. Ночной крик не слышит никто, кроме главного героя. Среди ночи в коридоре за его дверью появляется странная женщина, живущая на несуществующем этаже.
«Я изо всех сил пытался провалиться в сон, но каждый раз, когда это почти получалось, откуда-то из недр нашего железобетонного муравейника вырывалась порция отчаянной ругани – злой и визгливой, будто ошпаренной кипятком. Дрянные стены панельного дома не выдерживали соседского отчаяния и пропускали его через мелкие поры, как радиацию. Ссора началась около восьми вечера и сперва огрызалась отдельными выкриками, которые я назвал «всполохами». К одиннадцати она уже пылала вовсю и лишь ненадолго смолкала, потом перегруппировывалась и начинала стрекотать с новой силой».
«Вагон-ресторан» – история одного похмелья, описанная так сочно и ярко, словно сам все это проживаешь. И при этом с неожиданно светлым финалом.
«Страшная, черная дурнота, скопившаяся за несколько месяцев беспробудного пьянства, заполнила все естество пассажира. Ивану казалось, будто кто-то вывернул его наизнанку и выстирал в грязной, вонючей луже, а потом бросил гнить в кучу рваных бушлатов и матрасов, пропитанных потом. Грустный, побитый молью человек колыхался в вагоне, как последний осиновый лист, и без особого энтузиазма цеплялся за тонкую ветку, чтобы не слететь в грязь».
Раздел «Публицистика» представлен объемным трактатом Антона Заньковского «Ситуация метамодерна в контексте поворота к нечеловеческому». Автор провел масштабные исследования в области культуры, экономики, архитектуры и других дисциплин. И все для того, чтобы обосновать не просто необходимость, а вынужденность поворота человечества к природному, земному, заботе об окружающей среде. Вынужденности не только экологической, но и экономической, исторической, философской, архитектурной и т.п. Выводы автора подкрепляются многочисленными примерами, высказываниями ученых, философов, экономистов, архитекторов, политологов.
«Поворот к нечеловеческому не поможет нам построить общество тотального изобилия и бескомпромиссной справедливости, зато позволит сохранить достойные условия жизни, к которым относятся чистая вода, прозрачное небо и живые леса. (...) ведь мы упорно не желаем признавать, что живем в кредит, который не сможем погасить, что наше относительное благополучие обусловлено экологическими катастрофами в тех странах, где сосредоточено наиболее вредоносное производство. (...) А в это время происходит шестое вымирание, обусловленное вероломством человека разумного: каждый час с лица земли исчезают три вида животных, ежедневно мы теряем 70 видов флоры и фауны, за 25 лет мы утратили треть биологического разнообразия планеты».
Раздел «Критика и эссеистика» отмечает 220-летие Александра Дюма. Памятной дате посвящено эссе Альберта Измайлова «Я не видел ничего подобного ночам Петербурга». Автор рассказывает о поездке известного писателя в Петербург летом 1858 года.
В рубрике «Петербургский книговик» представлена статья Сергея Горбунова «Кощеево царство» – зловещая социально-политическая формация современности». Автор исследует историко-культурные предпосылки возникновения фашизма как явления и рассматривает его современные проявления – очевидные и скрытые.
В разделе «Искусство чтения» Калле Каспер в эссе «Мир Ремарка» вспоминает и размышляет об известном немецком писателе. В России романы Ремарка неизменно любимы. Времена меняются, а их актуальность сохраняется. Особенно это касается книг, посвященных теме изгнанников – тех немцев и евреев, которые после прихода к власти Гитлера бежали из родной страны («Возлюби ближнего своего», «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне» и «Тени в раю»). Калле Каспер вспоминает, как эти романы Ремарка стали вновь актуальны в годы массовой эмиграции после распада Советского Союза. Прошли десятилетия, и «эмигрантские» романы Ремарка снова современны, как и раньше.
Рубрика «Книжный остров» знакомит нас с обзорами новинок книжного рынка от Елены Зиновьевой. Это «Хроника Горбатого» Софии Синицкой; «Из Венеции: дневник временно местного. Валерия Дымщица; «Филологическая проза» Андрея Синявского» Ольги Богдановой и Елизаветы Власовой; «Польша: гиена Восточной Европы» Игоря Пыхалова и Дмитрия Goblin Пучкова, а также «Священство» и «царство» в начале «смуты»: московские патриархи, российские монастыри, духовенство Востока» Василия Ульяновского.
В рубрике «Пилигрим» Архимандрит Августин (Никитин) рассказывает о «Религиозном укладе жизни петербуржцев». Едва ли не с самого момента основания Санкт-Петербурга в город начался приток иностранцев: это были купцы, дипломаты, архитекторы, писатели, музыканты, художники и просто любопытствующие туристы. Многие из заморских гостей скрупулезно записывали свои впечатления об увиденном, а впоследствии издавали свои записки. Архимандрит Августин кропотливо собрал и представил нашему вниманию впечатления иностранцев о религиозной жизни петербуржцев начиная с XVIII века и вплоть до 1930-х годов.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети