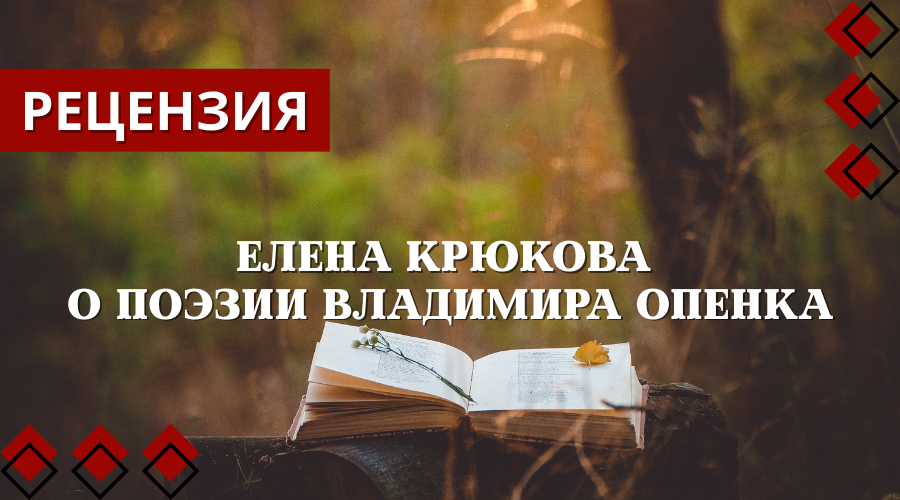
Стихи Владимира Опенка в целом, в совокупности, в ансамбле (подборки или книжного объема), обращают на себя внимание желанием соединить мир земной и мир небесный, горние сферы и земные радости, откровенную, акцентную мифологию и сиюминутное впечатление. Такое желание достойно уважения и рассмотрения: это есть вектор, направленный к объединению, к взаимосвязи Мiра дольнего и Мiра горнего. А значит, к той утерянной гармонии, которая в древних античных культурах именовалась Космосом.
Отсюда и тяга поэта обозначать стихии, узловые моменты культуры, бытийные понятия, осуществляя их поименование с прописной буквы: Природа, Смерть, Судьба. Этим поэт подчеркивает их онтологическое первенство, безусловное царственное превосходство в мифологической и смысловой иерархии бытия.
И иной раз для создания сугубо мифологического повествования автору не нужна классическая катренная рифма a-b-a-b: первая и третья строки часто в катренах поэта не рифмуются, тем самым создается латентная протяженность (удлиненность) строк (1+2, 3+4), родственная античному метроритму и древним рифмованным пространствам:
Но не дано нам сбросить крест долой. (…)
(К сожалению, ударение в слове «сАднить» — на первый слог, но правка здесь простая: «Ей саднил крест судьбы младые плечи…»)
И, в отсутствии рифмы между 1-й и 3-й строкой, стихотворение может быть записано так:
(etc.)
Абсолютно точно, в неоспоримый мифолого-метафизический авторский ландшафт вписывается музыкальная тема сражения — доблести — ратных подвигов — воинской чести — военной славы. Сражение как извечная принадлежность войны, как мировая данность вечно идущей схватки (между владыками, между племенами и народами, между честью и бесчестьем, и — шире — между Добром и Злом), в поэзии Владимир Опенка становится лейтмотивом, в котором громко звучит мужская, маскулинная эмоция чести, веры, воинского братства, бесспорного героизма. Здесь честь становится неким нравственным лакмусом, ориентиром, на который, пусть даже в смертельно раненном теле, движется, летит дух, к которому (пусть в последнем, предсмертном порыве!) устремляется сердце воина.
Бесчестье — не по нраву Богу.
Мы видим — опять первая плюс третья строки строфы остаются без рифмы. Скорость полета мыслеобразов такова, что автор, кажется, в этой классической рифме и не нуждается, внутренне, по умолчанию, опять удлиняя строку.
(Справедливости ради, чистоты ради русского языка обратим внимание вот на что: трубач трубит подъем не «к заутре», а, конечно же, скорей всего, к заутрене. Однако «заутре», «заутра», «заутро» — это наречия, обозначающие в старинном произношении и правописании завтрашний день. Может быть, автор имел в виду не заутреню, а просто — завтра?)
Исполнено душевного тепла, мелодики связей со славянской древностью, ощущением переплетения времен стихотворение «Баня». Всё бы хорошо, стихотворение живописное и жизненосное, но и этот текст не без недочетов. Рифма 1+3 то появляется, то опять исчезает.
Очиститься от нечисти, воспрять! (…)
А вот дальше наблюдаем интересный (спорный) момент:
Их ныне не вернуть.
Так в проруби «предки зачинали и рожали», или все-таки в бане? Читателю чудится, что в проруби. Возвращение к бане тут сделать необходимо («В ней, бане, предки зачинали и рожали…»).
Очень хорошо, что автор подчеркивает, что в славянской бане происходили и погребальные обряды — сейчас мало кто знает о том, что покойника парили, соблюдая определенную последовательность обрядовых действий, и географический регион этого обычая, сохранившегося вплоть до XIX-го века, — Беларусь, Карелия и западные области Центральной России.
Но движемся в нашем чтении к финалу.
Заветная, родимая мыльня.
К этой строфе есть существенные замечания.
Красивый, образный настрой финального катрена понятен.
Но ведь закуток — это всегда принадлежность помещения, а не открытого пространства (двора, сада, леса), закуток всегда внутри строения! И по-русски нельзя сказать «мыльнЯ». Только — «мЫльня»! Иначе это то же самое, что произнести «банЯ».
Можно предложить другую конструкцию последней строфы стихотворения «Баня»:
Святому Роду, времени верна.
…Похвально авторское стремление провести остросюжетную параллель между миром дикой природы и между миром людей, социумом, где часто главенствуют звериные законы. Вожак неведомой звериной стаи (мы можем догадываться, что поэт здесь изображает волчью стаю) ведет хищников-соплеменников на очередное сражение — это охота, схватка за добычу.
Видим первое несоответствие понимания звериного мира и людской общности. Зверям никогда не надо просто «поразмять тела», для них битва — не развлечение и уж точно не жажда «успеха». Зверь всегда бьется за безусловную конкретику жизни как выживания: если голоден — за добычу, если пришло время продолжить род — за самку и будущих детенышей. И в этом зверь благороднее человека; а люди сражаются (а порою и грызутся, как звери…) за чисто социальные аспекты — и здесь на арену, в качестве приманки, выходят преуспеяние, деньги, власть, погоня за наслаждениями.
В этом стихотворении много неточных рифм, тавтологии («вожди — полны», «свое — мое», «узда — взнуздает»). Нужна серьезная, вдумчивая редактура.
Столь же невнятно стихотворение «Прозрение» — и тоже требует подробной редактуры. Хотя тема утраты веры в Бога, сопоставимая с утратой жизненного покоя и уверенности в своих силах, тут звучит весьма драматично, и, по мысли автора, она призвана настроить читателя на непростые раздумья о жизненном пути (в стихотворении изображается ученик, которому приснился «зловещий сон» о том, как он стал почтенным, высоко вознесенным, но неверующим академиком. Где утраченный Бог? Как снова найти к Нему дорогу? И потом, «тьма» — числовое старославянское обозначение конкретного количества, это десять тысяч — отнюдь не «потьма» (простонародное слово, обозначающее туманную, непроглядную темноту).
Автору надо бы внимательнее, тщательнее прислушиваться к оборотам русской речи: что такое русская поэзия, как не концентрация русского слова, русской художественной образности, русского мелоса?
А после Небосклон себя явит. (…)
«С равнины / И носят подати и слушают оне» — что это, каков тут смысл? Прежде всего надо понять, что «оне» — местоимение, обозначавшее, в дореволюционной русской жизни и в дореформенной орфографии, объекты женского рода. А если небожители живут на вершине, то, может быть, «им носят подати» (жители равнины)? А они благосклонно эту дань принимают.
Разница между Небосводом и Небосклоном — какова она? В чем она? Возможно, тут Небосвод — символ земной роскоши, а таинственный Небосклон — знак неведомого воздаяния, наказания, гибели? Но ведь оба слова — синонимы… И рифма, рифма! «Заплатить» — «явит»… есть возможность подумать и прийти к рифме точной и убедительной.
Обрадовало стихотворение, посвященное русскому языку, хоть оно и не лишено избыточного пафоса и элементов откровенной риторики:
В молитве — тих у Спаса на крови. (…)
Здесь звучит торжественная, одическая нота, характерная для русской одической и дифирамбической классической поэзии. Из риторики и выспренних интонаций автор вырывается к искреннему восхищению родной языковой стихией, к констатации собственной гордости за принадлежность к Русской культуре, к признанию в любви к родному языку, а значит, и к Родине.
Поэт любит расширенные метафоры; ищет соответствие человеческому бытию в природе. Он сопоставляет льва и мужчину, изображает львицу… и тем больнее, горше финал стихотворения «Власть», где мужчина «свою утратил силу»: «Рожденный львом, а вырожден в овцу…». Вчитаемся в эту строку. Помним о недавно воспетом русском языке: много лучше, конечно, написать: «Рожден был львом, а обращен в овцу…». Вместо «вырожден» надо было поставить глагол «выродился» (в — во что, в кого). «Рожденный львом, он выродился в овцу» — это, увы, не влезало в избранный автором стихотворный размер, поэтому пришлось идти на нарушение языковых правил…
Владимир Опенок почти везде избирает определенный символ-знак, мыслеобраз стихотворения, задает сюжетную и тематическую канву — и по этой канве движется, как когда-то пел Окуджава, «от пролога к эпилогу». «Коса», «Ошибка», «Пугало» — это все тематические тексты, и в каждом автор стремится раскрыть заявленную символику так, чтобы читатель вместе с поэтом задумался над чудесами бытия, над его драматизмом и его радостями. Коса, которую заплетает девица-красавица, коса в руках мужика-крестьянина, коса в руке неотвратимой старухи-Смерти… И вот уже перед нами выстраивается сужденная нам знаковая лестница, лествица узнаваемой символики, где само Время обращается в безжалостную косу, а в руках крестьянина коса — незаменимое, насущное орудие труда. А за его спиной — уже Она, великая Безносая, с острой косой, срезающей всякую жизнь под корень:
Любя. (…)
«Всегда» и «любя» — снова сомнительная рифма. Однако у поэта всегда есть возможность подумать над тем, как сделать рифму богаче, ярче, выразительнее.
Удивительна в стихотворении «Пугало» строфа, которая сама по себе, вынутая из контекста, прочитанная отдельно, заслуживает вдумчивого рассмотрения и отдельного герменевтического анализа:
Которой нет. (…)
Пугало огородное, устрашение птиц, веселье для детей, игрушечное, мертвое подобие живого человека… — задумаемся над тем, что, возможно, эта неряшливая смешная личина, в лохмотьях, со старой кастрюлей либо разбитым горшком вместо головы, была когда-то живой фигурой, и у нее было живое лицо, а может быть, даже живой — небесный!.. — лик… Эта строфа обращает нас к мысли не только о быстротечности жизни, но и о превратностях судьбы, которая бросает нас с вершины счастья и праздника в бездну нищеты, уродства и забвения. Именно в этой строфе таится мегаметафора всего стихотворения.
И это — наши с вами раздумья о жизни и смерти.
Таково последнее стихотворение в подборке поэта — с полифоническим названием «Мертвый строй».
Солдаты идут в бой, и не все останутся в живых; но смерть внезапно оборачивается ликом вечной жизни, музыкой прижизненной панихиды. Герои убиты, но им — слава! Нравственная подоплека стихотворения крепка, настрой высок; атмосфера, невзирая на откровенное memento mori, эмоционально приподнятая, солнечная, победная, с фигуративом праздничной фрески, ясно и ярко звучащим мотивом вечной памяти:
Они навечно подле Бога.
Подведем исследовательские итоги. Владимир Опенок ищет собственную образную систему, авторскую тематику, работает не только с изобразительными началами, но и с идеей, с нравственными посылами. Необходимо более ясное и отчетливое слышание гармонии родной речи. Смелость, размах у поэта есть, надо обращаться к ювелирному мастерству, к работе с драгоценными подробностями изображаемого в тексте. Перспектива есть, а значит, есть и оптимизм поэтической жизни.
Крюкова Елена: личная страница.
Владимир Опёнок, родился в Средней Азии, много путешествовал, в Москве проживает с 2000 года.




