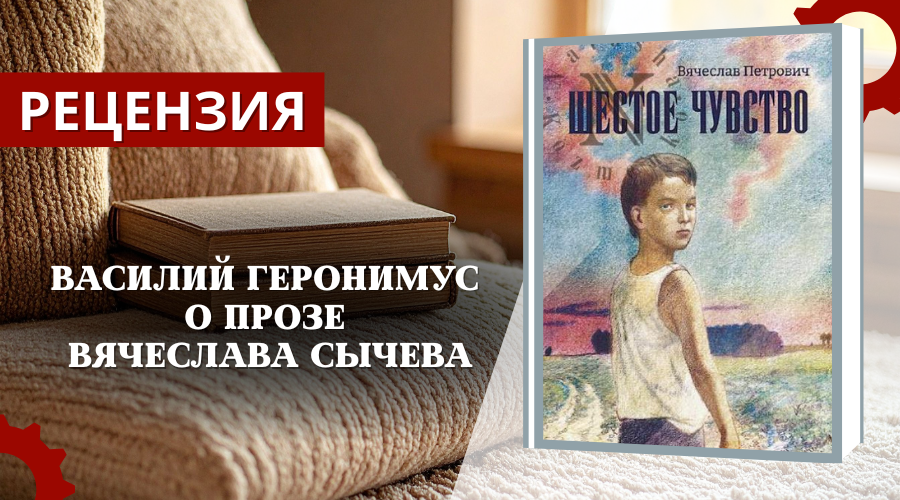
В произведениях прозы Вячеслава Сычева, нашего несомненно яркого и талантливого современника, присутствует и угадывается единый нарратив. Причем его событийное оформление не равняется его сути. Мы лишь постепенно прорываемся к этой волнующей сути, поочередно воспринимая множество повествовательных деталей и сюжетных подробностей. Они окольными путями ведут к самому главному. Недаром говорят, что окольный путь — иногда самый близкий.
Именно так! суть события может не равняться внешним обстоятельствам, его сопровождающим, хотя, казалось бы, и то и другое наделено сюжетной природой.
Обратимся же к произведению Сычева «Невеста», в котором писатель по-разному в жанровом отношении обыгрывает (и расцвечивает) единую сюжетную канву. Сначала она предстает в новеллистическом оформлении, а затем перефразируется автором в ключе небольшой пьесы. В узком смысле мы имеем дело с двумя одноименными произведениями.
Главный герой новеллы «Невеста» (и одноименной пьесы), некто Игорь Иванович, человек в принципе неплохой, но погрязший в сомнительных денежных махинациях, в сомнительных делах. Игорь Иванович ввязывается в таинственные и опасные многоходовые аферы отчасти для того, чтобы прокормить семью и обеспечить потомству жизненную стабильность (например, в форме надежной недвижимости). Человек он по большому счету не злонамеренный, но изрядно запутавшийся в поисках пути (как по-другому поводу сказал Пастернак).
В полукриминальной среде, в которой вращается Игорь Иванович, внезапно появляется роковая красавица — Настя. Она — самоотверженная романтическая натура, жаждущая опасной правды в противовес финансовой пользе, которой как некоему идолу усердно служит Игорь Иванович и ему подобные. Так, Настя, богемная художница, вступает с ним в борьбу за сферу влияния на Бориса — сына бизнесмена.
Едва ли не для того, чтобы насолить человеку, живущему во имя презренной пользы, Настя не прочь женить на себе его сына Бориса — и тем самым вовлечь Бориса в богемный хаос, альтернативный жесткому миропорядку, в котором циркулируют серьезные денежные суммы, требующие постоянной ответственности и продуманных взвешенных шагов. (Иначе можно запросто получить пулю в лоб). Меж тем, художница Настя живет беспечно, попивает и временами пытается вовлечь Бориса в свой жизненный контекст.
Натура разбитная, Настя совсем не прочь совратить и Игоря Ивановича хотя бы для того, чтобы выбить его из привычной деловой колеи. Или сделать живого человека из машины по зарабатыванию денег, по выполнению житейских функций.
В то же время Настя, которая любит роскошь и блеск, прямо или косвенно зависит от денег Игоря Ивановича и в соседстве с ним подвергается реальной опасности…
Однако за всей чередой составляющих современного психологического детектива, в нарративе Вячеслава Сычева — в его ядре, в его сути — кроется библейский прообраз. Некоторые — быть может, наиболее проницательные — персонажи «Невесты» догадываются о том, что идеальным прообразом Насти является библейская Юдифь.
Она была наделена неземной красотой и вскружила голову военачальнику Олоферну, который шел со своим войском на израильтян. Воспользовавшись своими женскими качествами, Юдифь напоила влюбленного, а затем обезглавила его. Таким образом, принеся в жертву женственность (предоставив Олоферну горячо желаемое), Юдифь хитроумным путем спасла израильтян. (Войска Олоферна обратились в бегство, когда обнаружили, что их предводитель обезглавлен).
Итак, войскам Олоферна противостала не другая армия, а женское коварство (и женское очарование) Юдифи.
В аналогичном смысле художница Настя, героиня Сычева, готова переспать с Игорем Ивановичем для того, чтобы разрушить его психоидеологию. Именно эта несколько парадоксальная интенция Насти (а не детективные подробности) составляет суть действия «Невесты». Едва ли не в более явной форме женские качества Насти (как ее оружие в борьбе с Игорем Ивановичем) проявляются в ее личных отношениях с Борисом. Очевидно, что, фактически отняв сына у отца (например, банально женив Бориса на себе), Настя достигнет своей цели. Как видим, эта цель отнюдь не ограничивается эротической сферой, но существует в неисчерпаемом смысловом поле извечного противоборства истинной романтики и презренной пользы.
По-своему не удивительно, что Игорь Иванович, подобно ухарю-купцу, Рогожину Достоевского, который зарезал красавицу Настасью Филипповну, в состоянии убить Настю. И случайно ли, что героиня нашего современника является неполной, но тезкой героини романа Достоевского «Идиот»?
В означенном смысловом поле, которое неизбежно связывается с излюбленными эпитетами Ахматовой — «достоевский и бесноватый» — сын Игоря Ивановича Борис обретает некоторые черты современного Мышкина. В контрасте с отцом — циником и практиком — он предстает как голубоглазый и светловолосый отрок, который люб сердцу внешне скандальной, но внутренне чистой Насти. (Снова вспоминается Настасья Филипповна Достоевского).
И все-таки не преминем заметить, что чрезмерное увлечение литературными параллелями может как бы заслонить от нас черты автора «двух» «Невест» (т.е. двух произведений с одинаковым названием и сходным сюжетом). Внутренне осознавая это, наш современник Вячеслав Сычев выстраивает один сюжет в двух разных дискурсах и демонстрирует читателю то, как взаимно не совпадающие дискурсы соответствуют разным смыслам. Иначе говоря, развернутая перифраза новеллы «Невеста» в подчеркнуто театрализованной форме является смыслоразличительной (а не случайностной).
В новелле «Невеста» Сычев пишет (с. 1):
«Сухая гроза облегчилась дождем и облегчила от головной боли Игоря Ивановича. Капли дождя стучали о перила открытой террасы, чмокали в стакан в серебряном подстаканнике с нетронутым остывшим чаем и бокал недопитого Игорем Ивановичем коньяка, которым он лечил головную боль».
С первых строк новелла «Невеста» погружает читателя в мир пленительных подробностей, которые отчетливо связываются со школой натурализма в литературе. Напоминаем терпеливому читателю, что в отличие от реализма, который занимается социально типическими явлениями, натурализм занимается эмпирикой и конкретикой жизни. Разница принципиальная!
В типологическом смысле означенные эмпирика и конкретика связываются с искусством кино, которое несколько парадоксально противополагает себя искусству театра. Если в театре с его занавесом, подмостками, котурнами преобладает выработанная веками существования сцены эстетическая условность, то в кинематографе художественно оживает эмпирическая реальность, будь то памятный нам по творчеству Достоевского след от рюмки на скатерти или воспетые Сычевым капли дождя. В «Невесте» Сычева присутствуют некоторые черты киноповести, она по-своему противостоит классическому театру, средствами которого физически невозможно достоверно изобразить сухую грозу. Она может быть передана новеллистическими средствами, к которым успешно прибегает и наш современник Вячеслав Сычев.
О его тяготении к колоритным натуралистическим подробностям не имело бы никакого смысла говорить, если бы они не были глубоко смыслоразличительными.
Так, в соответствии с натуралистической кистью автора «Невесты» в одноименном произведении Сычева являются таинственные полутона и тени. В натуралистической вселенной есть место оттенкам и нюансам бытия… В соответствии с повествовательным дискурсом, к которому прибегает Вячеслав Сычев, в новелле «Невеста» является поэтика намеков. Если, например, у Достоевского проблемные жизненные ситуации с завидной регулярностью сопровождаются громкими скандалами, то у нашего современника даже криминальные разборки облекаются в некую классически-обтекаемую форму и сопровождаются поэтикой намеков.
Автор пишет: «Встреча с Ашотом была инициирована друзьями, от рекомендаций которых не отказываются».
В первом приближении речь идет чуть ли не о встрече «кунаков» (у Сычева употребительно именно такое слово) по ходатайству неких таинственных друзей Игоря Ивановича. И лишь в подтексте угадывается, что эти «друзья» ведут себя весьма подозрительно. Они под различными благовидными предлогами осуществляют навязчивую опеку над Игорем Ивановичем, втягивают его в свои сомнительные дела и при случае — они же — совсем не прочь выпотрошить бумажник несчастного.
Таким образом, и встреча двух друзей на свежем воздухе, в приятной обстановке не сулит ничего хорошего: читатель уже догадывается: пресловутый Ашот — это криминальный авторитет, наделенный широкими сферами влияния и, что самое неприятное, готовый со временем финансово поглотить и самого Игоря Ивановича.
Чрезвычайно показательно, что во встрече двух «друзей» присутствует некая скользкая тема, к которой ни один из них не решается сразу подступиться. Они говорят на темы нарочито нейтральные и бесконечно откладывают неизбежный разговор. Очевидно, что он пойдет о деньгах. О больших деньгах. Только они, скорее всего, достанутся не Игорю Ивановичу, а гораздо более крупным и могущественным финансовым воротилам.
Наконец, Игорь Иванович не выдерживает и вступает в опасный разговор первым (что едва ли вполне дипломатично):
«— Так что ты предлагаешь?
— Тебе наши друзья не говорили? Лес возить в Китай из Красноярского края».
В соответствии с законами натурализма и родственной им поэтикой намека, в чем состоит этот бизнес, так толком и не выясняется. Однако перед читателем встает нечто пугающее, экзотическое, непонятное — и едва ли сулящее благо Игорю Ивановичу. Из повествовательного подтекста следует, что его хитроумно и коварно используют.
Недаром говорят, что малые средства — самые сильные. Таинственный транзит «Красноярск — Китай», окутанный неизвестностью, выглядит опаснее любой понятной финансовой схемы. Видно, что Ашот и иже с ними ловят рыбку в мутной воде.
И все же, быть может, самый замысловатый и колоритный эпизод новеллы «Невеста» связан вообще не с бизнесом, а с двусмысленной моторикой Ашота. Он внешне ведет себя как старый друг Игоря Ивановича, но внутренне позиционирует себя как хозяин.
Его косвенное желание со временем прибрать к рукам жилище Игоря Ивановича выражается в том, что он в состоянии вежливо распоряжаться приватной территорией своего «друга». Так он будто бы ненавязчиво предлагает всей компании пообедать не там, где уже накрыто, а на террасе. Казалось бы, пустяк, однако он свидетельствует о том, что Ашот, при своей показной вежливости, ведет себя в доме Игоря Ивановича как хозяин. Автор пишет (о помощнице по дому):
«Лейла призвала помощницу и принялась разорять накрытый стол и переносить столовые приборы на террасу, делая вид, что не раздражена капризом гостя».
То, что гость, который держит себя в рамках приличия, позволяет себе каприз, психологически и социально симптоматично. Наблюдается латентная экспансия Ашота в приватное психологическое пространство Игоря Ивановича.
В новелле «Невеста» имеется еще одна убедительная психологическая пружина. Вышеупомянутая Лейла раздражена, но вынуждена это искусно скрывать. По аналогии с Лейлой все персонажи рассказа, — включая Игоря Ивановича, — накапливают психическое напряжение, которое в конце новеллы стремительно разрешается, пружина умело «выстреливает».
В обстановке тяжелого финансово-психологического стресса, который переживает отец семейства, встает вопрос о том, чтобы Игорь Иванович полетел с Настей во Францию, где она приобрела известность как художница. Тем самым Игорь Иванович пытается уберечь сына от влияния Насти — вместо сына остаться с нею во Франции. Ольга, жена Игоря Ивановича, не возражает и даже парадоксально одобряет этот жизненный сценарий. Мужа, разумеется, коробит то, что жена совсем не ревнует его к Насте. Между тем, у Ольги своя внутренняя логика: она воспринимает Игоря Ивановича не в качестве человека, а в качестве совокупности поведенческих функций. И оказывается не в состоянии даже ревновать…
Однако при всей безысходности сюжета в финале новеллы «Невеста» все же остается доля лирической недосказанности. И если поведенческие возможности героев ограничены, то существуют, по крайней мере, их внутренние интенции, скрытые устремления.
По-иному, — более жестко, более радикально и безысходно, — развивается сюжет небольшой пьесы Вячеслава Сычева «Невеста (Юдифь из Парижа) Романтическая история».
Смысловое поле пьесы нашего современника связано с ее поэтикой. Если в поэтике новеллы «Невеста» присутствуют некоторые черты киноповести, то в поэтике одноименной пьесы угадываются некоторые признаки фильма-спектакля. Если собственно поэтика кино подразумевает человека (персонажа) и его жизненное пространство, его среду обитания (не случайно, например, то, что Ашот у Сычева территориально расширяется), то поэтика сцены (заведомо неравной экрану с его тяготением к трехмерному пространству) подразумевает героя и его жизненную идею, его личностный логос. И если очарование кино практически невозможно вообразить вне пространства, вне фона действия, то с фильмом-спектаклем дела обстоят противоположно. Там главное, быть может, не фон действия, а движение губ, произносительная мимика актера (персонажа), который транслирует тот или иной личностный логос. Случайно ли, что в фильме-спектакле речевой жест персонажа неотделим от психологического жеста? Если дела обстоят так, то смысл фильма-спектакля всегда будет иным, нежели смысл киноповести, который мы попытались спорадически выявить в новелле Сычева «Невеста».
Личностный космос, который присутствует в новелле, составляет своего рода нейтральную среду действия. Она по-своему балансирует различные жизненные интересы персонажей. В фильме-спектакле, к которому неявно тяготеет Сычев пьесе «Невеста», жизненное кредо того или иного персонажа, напротив, выходит на первый повествовательный план, относительно эмансипируется от авторского голоса и в потенциале — вытесняет фон действия.
Таким образом, смысловое поле пьесы «Невеста» проще и жестче смыслового поля одноименной новеллы, изобилующей смысловыми оттенками. В данном же случае оттенки сменяются категорическими, бескомпромиссными утверждениями персонажей.
В некоторых случаях персонажи пьесы — например, Настя — договаривают то, чего намеренно недоговаривает автор. Так, Настя обращается к Борису. Она проницательно советует своему сердечному другу:
«Забирай у папаши, пока Ашот не отобрал. Не бизнесмен твой отец. Я людей изнутри вижу».
То, что в новелле носит характер тонкого намека на опасность, исходящую от Ашота, в пьесе приобретает характер прямого высказывания и своего рода «штормового предупреждения» Борису.
Сын в пьесе «Невеста» предстает отчасти как продолжение отца. Если Игорь Иванович — человек по большому счету не злонамеренный, но подверженный сомнительным влияниям, то Борис человек чистый, но жизненно не искушенный. Об этом свидетельствует не фон действия, а прямая речь Бориса.
Он рассказывает Насте о своем прошлом:
«Мы с ней до свадьбы ни-ни. Я ее уже и с мамой познакомил. Выпивали в компании, я задремал, но я все слышал и видел, и она не была пьяна, она вообще не пила. Мужчина постарше, незнакомый, берет ее за руку, она на меня смотрит, я сплю, но я все вижу, и она уходит с ним в другую комнату, и я все слышу, а потом они возвращаются домой и садятся за стол как незнакомые люди, и я открываю глаза, будто проснулся, она говорит, «любимый мой, проснулся» и ластится ко мне, и я перехватываю на себе взгляд мужчины, что пришел в компанию с тем мужчиной».
Любопытно, что Бориса в данном случае аттестует не столько непосредственно его поведение, сколько его прямая речь. Она, в свою очередь, заостряет то, что присутствует в характере (или, лучше сказать, бесхарактерности) Бориса. Он весь в отца. Если Игорь Иванович проявляет некоторую дряблость в отношениях с Ашотом, то Борис оказывается инертным и слабохарактерным на любовном фронте. Он как бы проспал собственную невесту (ту самую предшественницу Насти).
Не потому ли, несмотря на романтический порыв к Насте, Борис не может ее спасти из лап полукриминальной среды и, следовательно, не может достичь личного счастья с Настей. И сама Настя, отдавая должное романтическим устремлениям Бориса, сердечно осознает их житейскую несостоятельность.
Она обращается со строгой отповедью к Игорю Ивановичу (сердечное устроение Насти выражено в ее речи):
«Не люблю. А тебя ненавижу. И Ашота ненавижу, и всех вас ненавижу. Я не хочу, чтобы Борис был таким, как вы. Он чистый наивный мальчик, влюбленный в меня, прежнюю, юную, восторженную, жаждущую любви девочку. Я дам ему любовь. Он узнает настоящую любовь».
И однако, возвеличивая Бориса в глазах отца, Настя косвенно указывает на его наивность как препятствие к истинному счастью. Борису по-прежнему не хватает внутренней силы, чтобы противостоять деструктивным воздействиям извне.
И если в финале новеллы «Настя» присутствует доля намеренной неопределенности, то Эпилог одноименной пьесы является радикально скептическим:
«Петр Никанорович (читает). Известная художница Glafira rus [псевдоним Насти — В.Г.] на набережной Биарриц с неизвестным бойфрендом в малиновом пиджаке. И фото. (Пытается положить лист на стол).
Борис Игоревич (не смотрит на фото). Забери. Не захламляй стол».
Малиновый пиджак прозрачно символизирует всю ту же власть криминала. Ей не в силах последовательно противостоять даже Борис. Несмотря на некоторые оставшиеся в прошлом благие потуги, Борис становится фактически креатурой собственного отца.
Перед нами снова предстает современный вариант Мышкина. Как и его литературный предшественник, Борис наделен чистой душой. Однако он не может спасти Настасью Филипповну (или Настю?), потому что является человеком слабовольным и, более того, хроническим дурачком.
Причем от новеллы «Настя» к одноименной пьесе авторский скепсис отчетливо возрастает.
И при всем при том, оба произведения безупречно написаны. Там все чеканно, все точно, нет ни одного лишнего слова. И между единственно точными, безупречно найденными, доходящими до сердца словами неизменно витают нерушимые: Вера, Надежда, Любовь.
Василий Геронимус: личная страница.
Вячеслав Петрович (Сычев В.П.) родился в в Воронеже, живет в Москве. Интерес к литературному творчеству унаследовал от родных. Отец в 1939 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, не окончил, был призван в армию, образование завершил после войны в медицинском институте, работал врачом, писал для себя, его брат был театральным художником, увлекался стихосложением. Вячеслав Петрович в 1970-е годы, посещал семинар поэзии при Центральном доме литераторов. Профессию писателя не выбрал, продолжил писать для себя, окончил Московский энергетический институт, работал инженером по ремонту турбин, научным сотрудником НИИ железнодорожного транспорта. Сейчас — профессор Российского университета транспорта. Доктор технических наук, автор более двухсот научных публикаций в российских и зарубежных изданиях и пятидесяти патентов на изобретения. Литературные тексты начал публиковать под псевдонимом Вячеслав Петрович в альманахах Российского союза писателей и частных издательствах. Предпочтение отдает прозе. Любимым писателем называет Марселя Пруста.




