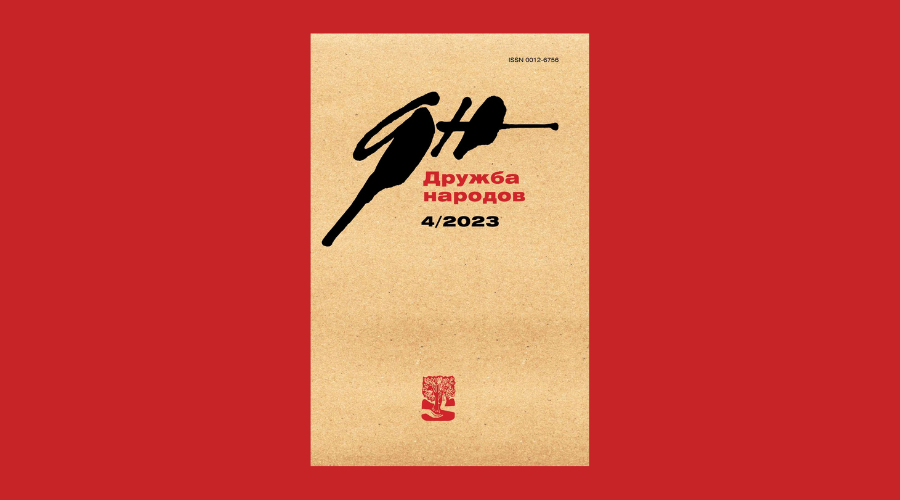«Дружба народов» № 4, 2023
«Дружба народов» — журнал современной литературы и культуры, объединяющий писателей России и зарубежья. Основан в марте 1939 года в Москве. Выходит ежемесячно. Тираж 2000 экз. Редакция уделяет внимание авторам из республик бывшего Советского Союза.
Сергей Надеев (главный редактор), Наталья Игрунова (1-й зам. главного редактора, зав. отделом критики), Александр Снегирёв (зам. главного редактора), Елена Жирнова (ответственный секретарь), Галина Климова (редактор отдела Поэзия), Владимир Медведев (редактор отдела Публицистика), Ирина Доронина (редактор отдела Нация и мир), Ольга Брейнингер (член редколлегии), Мария Ануфриева (член редколлегии), Иван Рудинский (главный бухгалтер). Редакционный совет: Сухбат Афлатуни, Муса Ахмадов, Ольга Балла, Дмитрий Бирман, Денис Гуцко, Иван Дзюба, Валентин Курбатов, Ольга Лебёдушкина, Фарид Нагим, Илья Одегов, Кнут Скуениекс, Сергей Филатов, Ринат Харис, Вячеслав Шаповалов, Эльчин.
Необъяснимая галактика как среда обитания человека
«Дружба народов» – литературно-художественный и научно-публицистический журнал академического уровня. Цель журнала – явить общечеловеческие смыслы в этнических преломлениях и в то же время – обратиться к тому единству, которое было присуще человечеству до падения Вавилонской башни.
Таким образом, в журнале фигурируют не только и не столько этнические реалии, сколько этнические ментальности, которые, в свою очередь, возводятся к представлению о человечестве как целом.
Основные темы четвертого выпуска журнала «Дружба народов» за 2023 год: гендерная тема (Дмитрий Исакжанов «Проскинитарий», роман, Александр Жданов «Мектуб, китаб, катиб». Рассказ с отступлениями» и др.), советское прошлое в контексте современности (Борис Минаев «Мои чужие тексты». Главы из будущей книги» и др.), Родина и чужбина (Макс Неволошин «Океан, балет и выпивка с утра», путевой очерк, и др.), тема Хроноса (Андрей Коровин «И ласточки вращали шар земной…», стихи и др.).
Основные публикации четвертого выпуска журнала «Дружба народов» за 2023 год: Татьяна О. Филатова, рассказы, Александр Жданов «Мектуб, китаб, катиб». Рассказ с отступлениями», Дарья Андреева «Два рассказа», Андрей Пермяков «Памяти пир». Стихи для Софьи», Анастасия Трифонова «В потревоженной ране», стихи, Борис Минаев. «Мои чужие тексты». Главы из будущей книги».
Одной из вершин прозы журнала являются рассказы Татьяны О. Филатовой. В рассказе «Пантюх» описано как он, участник группы, которая едет в далёкие места готовить репортаж, и она, уроженка глухой деревни, встречаются на жизненном пути. У них завязываются глубокие сердечные отношения.
Однако он и она упустили своё счастье. Они не становятся единым целым благодаря цветистой лжи, которую распространяют о себе в приватных беседах. Художественно примечателен не сам факт этой лжи – мало ли кто чего насочиняет? – а её почти неизбежный характер. «Женщине лукавить, / Царю править» – некогда сказала Цветаева. И в рассказе нашей современницы убедительно явлено то, как игра, вымысел – словом, мир женских фантазий, – всё это располагает героиню рассказа сочинять о себе такое, что идёт едва ли не в ущерб самой героине. Некоторыми своими высказываниями и действиями – не будем их здесь приводить! – она, быть может, сама того не желая, охлаждает пыл молодого человека. Достаточно сказать, что он – объект искреннего увлечения героини – благодаря хитросплетениям её лжи получает повод опасаться, что при определённых обстоятельствах любовь может довести его до тюрьмы. (Такое слово в рассказе не употребляется, но такой смысл подразумевается в числе всего прочего).
Неустанно лжёт и молодой человек. Мотивы его отклонения от правды более понятны, чем мотивы девушки. Он хочет выглядеть как столичная штучка и пускает ей пыль в глаза, даёт ей понять, что по сравнению с ним она – деревенщина. Она же врёт бескорыстно, из одной художественной потребности… Так, мало-помалу они оба запутываются в хитросплетениях неправды. Вот о чём с редким художественным остроумием свидетельствует автор.
Художественная сила рассказа Филатовой заключается ещё и в том, что смысл рассказа – и представление о силе правды – кроется в сюжетно побочной повествовательной опции и в слове – «пантюх». Контекстуальный смысл этого слова можно узнать, прочитав рассказ.
Второй рассказ подборки Филатовой называется «Как я не стал магом». Рассказ построен по тургеневскому принципу: внутреннее кредо различных персонажей выявляется не столько через сюжет, сколько через диалог.
Благодаря комбинации диалогов и свободно петляющей сюжетной линии выясняется, что девушки благодаря своей алогичности способны деструктивно влиять на ответственные мужские занятия, однако без девушек обойтись тоже невозможно, поскольку именно они – благодаря всё той же алогичности – вносят в мужскую среду необходимое оживление.
Разумеется, то, что находится «за кадром» повествования, второстепенно по отношению к тексту как таковому. И всё же едва ли случайно, что за героем повествователем, которого синтаксически представляет некто он, зыбко угадывается – она, Татьяна О. Филатова, не герой, но автор. Данный психолингвистический факт имеет двоякое значение. С одной стороны, мы с удивлением видим, как автор – она – изнутри исчерпывающе чувствует мужскую психику. С другой же стороны, женское начало всё же угадывается в тенденции Филатовой работать с повествовательными частностями. Психологи уверяют нас, что женское мышление более конкретно, нежели мужское. И в рассказе Филатовой присутствует немужская конкретика – например, детали компьютерного сленга, на котором общаются персонажи. Художественно интересна, однако, не конкретика как таковая, а её смыслоразличительная роль. То, как именно герой рассказа приходит к своему гендерному кредо, выявляется в рассказе не логически абстрактно, а житейски конкретно.
Тему несбывшегося счастья, затронутую Филатовой в предыдущем рассказе, продолжает Александр Жданов в художественной публикации «Мектуб, китаб, катиб». Рассказ с отступлениями».
В рассказе эротически ярко, но без излишнего смакования телесных подробностей описывается как между ним и ею возникает чувство, а затем завязывается роман. Причём в рассказе художественно остроумно показано, как развитию событий способствовал случай, однако едва ли он был определяющим – определяющим был взаимный зов двух сердец.
Отношения двоих разворачиваются на величественном фоне моря и тем самым по силе, по выразительности косвенно уподобляются свободной стихии.
И вот он и она готовы пожениться. Казалось бы, ничто не предвещает катастрофы. Но вскоре выясняется, что она – очаровательная узбечка – является заложницей обстоятельств, которые делают практически невозможным для неё навеки воссоединиться с любимым человеком. На её родине – в далёком Узбекистане – женщина играет пассивную роль, такова многовековая традиция. Поэтому личный выбор героини рассказа в среде её родственников ничего не значит. Её уже заранее выдали за некоего богатого магната, потому что так выгодно, так удобно её родителям. Её никто не спрашивает, за кого она хотела бы выйти замуж.
В рассказе подчёркивается непередаваемая глубина и красота узбекской этнокультуры, почти равновеликой такому восточному классику, как Хафиз – поэту с мировым именем, стихами которого зачитываются он и она. Но и Хафиз принадлежит культуре, где существует традиция гарема. Выражаясь на русский лад, гарем становится словом, которое из песни не выкинешь. То, что женщину порой воспринимают как вещь, которую можно кому-то подарить или отдать, есть неизбежная часть величественной узбекской культуры. Она эстетически имманентна родоплеменному мышлению.
Девушка ясно растолковывает молодому человеку, что бороться с целым кланом её влиятельных родственников бессмысленно: его отстранят или просто убьют, если он попытается вмешаться в ситуацию…
Рассказ заканчивается трагически, но конкретного виновника нет (тем более что молодой человек всё-таки пытается бороться с судьбой, но тщетно, как и предсказывала девушка).
Сюжетную коллизию, при которой происходит катастрофа – в ней все понемножку виноваты и никто не виноват конкретно – содержит также рассказ Дарьи Андреевой «Гуси-лебеди». Место действия рассказа современно узнаваемо. Урбанистическая среда города как бы надвигается на пригород, который, в свою очередь, придает урбанистическому ландшафту черты поэтически обаятельной дикости. В таких местах недолго и потеряться, что и происходит с героем рассказа, маленьким мальчиком.
Родственники, естественно, бьют тревогу – пропал человек! Постепенно является и подоплёка совершившейся катастрофы. Родственники пропавшего мальчика, покуда он жив, пытаются его друг на друга спихнуть. Так малое дитя поручают героине рассказа – Лене. Мальчонка исчезает, пока она на минуточку удалилась от него для телефонного разговора. Причина происшедшего, как свидетельствует деликатно проводимое автором психологическое расследование, – не минутный телефонный разговор, а всеобщее безразличие к ребёнку. Его способна поколебать только немыслимая катастрофа, которая и происходит.
Следующий рассказ Андреевой называется «Штопанный»; он также посвящён детским страхам и детскому травматизму. Мир, в который рождается ребёнок, непонятен, нов для него, а значит, страшен – свидетельствует писательница.
Сквозная тема детства у Андреевой определяет и поэтику названий: оба её рассказа «Гуси-лебеди» и «Штопанный» включены в единую подборку прозы «Два рассказа».
С темой семьи и детей в журнале связывается гендерная тема вообще. С темой, имя которой он и она, связывается подборка Ольги Гуниной «На стыке». Она опубликована в журнале с кратким подзаголовком «Рассказы».
Первый рассказ Гуниной «Сколько помнит себя лес» имеет нечто общее с киноповестью (хотя остаётся рассказом). С экранной поэтикой его, однако, роднит среда действия: динамика езды в автомобиле и параллельная ей динамика диалога-поединка, который ведут он и она. Он обнаруживает некоторые донжуанские признаки, каковые проявляются весьма своеобразно – и на современный лад. Нынешний донжуан демонстративно равнодушен к своей спутнице в автомобиле, но склонен по дружбе выбалтывать ей всё о своей беспорядочной личной жизни. Например, он упоминает бывшую, с которой закончил отношения, но иногда с нею встречается и спит.
Она, со своей стороны, пытается отвечать своему спутнику едва ли не симметрично (с. 167): «– Всё норм, я тоже тебя не люблю».
Однако из подтекста рассказа следует, что холодность спутника всё же сердечно травмирует героиню рассказа, при всём её демонстративном безразличии к другу-искусителю.
Разрешение внутренней боли она усматривает и обретает в вековечной силе леса (о чём свидетельствует и заглавие рассказа). Она может навеки исчезнуть в лесу, чем фактически шантажирует и молодого человека. (Его подруга поясняет, что ей необходимо ненадолго отлучиться, но в потенциале она способна навеки удалиться в таинственное никуда).
Он, в свою очередь, описан как современный донжуан – не активный вершитель любовных подвигов, а, напротив, человек, смертельно усталый от женщин (и едва ли не желающий одиночества), но способный развеяться во фривольно-дружеской беседе со своей спутницей.
В других рассказах Гущиной фоном действия также является природа, составляющая вселенной. Например, в рассказе «Большое небо» показано, как подросток, катаясь на велосипеде в сельской местности, попал в грозу и пережил психофизический катарсис, иначе говоря, некое глобальное очищение. Он как бы принял вселенский душ.
В рассказе «На стыке», как в рассказе «Сколько помнит себя лес», присутствует – и едва ли не преобладает – тема флирта. Она является в весьма своеобразном сюжетном преломлении. Некогда он и она «дружили домами» и, как нетрудно догадаться, одновременно находились в сердечно доверительных отношениях. Но вот её дом расселяют. А его дом, находящийся едва ли не всего в нескольких метрах от её дома, по каким-то непонятным территориально-административным причинам не расселяют.
И вот эта новая конфигурация домов соответствует новому устроению их сердечных отношений. Однако им обоим – и ему, и ей – очень и очень есть что вместе вспомнить и, кто знает, быть может, вместе заново пережить.
Во всех трёх рассказах Ольги Гущиной, как и в классической киноповести, немалую роль играют интерьер, экстерьер и ландшафт – т.е. различные срезы изображаемого пространства.
Среда обитания человека или, выразимся ещё более узко и конкретно, гений места (genius loci) имеет большое значение также в подборке прозы Елены Ермолович «Воды Леты ли, Стикса?». Само заглавие подборки (а не только её содержание) свидетельствует о том, что место действия новелл Ермолович (подборка состоит из нескольких новелл) смыслоразличительно.
Формально подборка имеет подзаголовок «Рассказы», но по существу Ермолович устремлена к новеллистической поэтике с её двуединой – вопросно-ответной – структурой, с её вечными «казалось» и «оказалось», с её головоломными загадками и неожиданными разгадками.
Так, действие одной из новелл Ермолович, носящей выразительное название «Растяпа», происходит в шикарном ресторане, где собирается элита. Соответственно посетители заведения – люди, одержимые почти нечеловеческими страстями. Но так только казалось, а оказалось, что некоторые из этих «небожителей» тоже в состоянии ошибаться.
Так, некий элегантный молодой человек (явно из высшего общества) принимается заигрывать с блондинкой за соседним столиком. Однако взоры блондинки устремлены к знаменитой писательнице, сидящей там же неподалёку. Молодой человек решает, что пленившая его особа, в свою очередь, является поклонницей литературного светила. Однако судя по тому, как ведёт себя блондинка, молодой человек имеет основания заподозрить, что она не столько ценительница таланта писательницы, сколько лесбиянка.
В развязке рассказа (или, лучше сказать, новеллы) выясняется, что таинственная она по счастью всё-таки не лесбиянка, однако существует нечто – не столь аномальное – что делает совершенно невозможными дальнейшие отношения молодого человека с юной красавицей. Разгадку интриги можно узнать, прочитав новеллу.
Подборку прозы Елены Ермолович завершает рассказ «Демон». Воздерживаясь от школьного пересказа сюжета, отметим, что суть рассказа – его смысловое ядро – заключается в таинственной соотносительности интимно-телесного и идеально-символического аспектов любви.
Открывает подборку Ермолович рассказ «Госпожа Лигейя» (не будем проводить уж очень жёсткого разграничения рассказа и новеллы, вгоняя живой текст в прокрустово ложе удобного термина). Действие рассказа происходит на роскошном курорте, который одновременно олицетворяет житейскую тщету или даже некую мировую пустыню, где томится душа. Там же, на отдыхе героиня рассказа в дружбе со своими соседями и переживает очередной виток разочарования в жизни (истинные аристократы вослед Печорину Лермонтова являются на курорт скучать) и одновременно – она же освобождается от некоторых тягостных иллюзий.
Финал рассказа свидетельствует о внутренних метаморфозах героини, но на сюжетном уровне сохраняет в себе лирическую недосказанность. Героиня так и не узнаёт многого о своих соседях, пока те уезжают с курорта, поспешно меняя места обитания, пока продолжает вращаться наш переменчивый мир...
Проза журнала «Дружба народов» испытывает на себе некоторое влияние чеховского натурализма, о чём свидетельствуют эстетически обаятельные – и жизненно узнаваемые – случайности в прозе Елены Ермолович. Так, её рассказ «Госпожа Лигейя» если не написан по следам реальных событий, то построен как их убедительная имитация.
Вот почему рядом с рассказом Ермолович может быть поставлен факт документальной прозы – эмигрантский очерк Макса Неволошина «Океан, балет и выпивка с утра», опубликованный в журнальной рубрике «Нация и мир». Описывая модный бар в Сиднее, Неволошин обнаруживает аристократическую скуку едва ли не байроновского толка. (Наблюдается перекличка очерка Неволошина «Океан...» с новеллами Ермолович «Госпожа Лигейя» и «Растяпа», где также модный курорт или шикарный ресторан становятся местами аристократической скуки и модной разочарованности).
Живописуя утренний бар в роскошном Сиднее, автор параллельно показывает изнанку «красивой жизни»: при всей приятной экзотике этих удивительных мест, с зарплатой и работой там обстоят дела весьма непросто. В модных офисах возникают интриги, вспыхивают конфликты и, конечно же, – являются финансовые трудности.
В их неустанном преодолении автор очерка усматривает некую головокружительную романтику.
Открывает рубрику «Проза и поэзия» в журнале роман Дмитрия Исакжанова «Проскинитарий». Имеется редакционная помета: «Начальные главы романа опубликованы в «Дружбе народов», № 8, 2022».
Сюжетную канву романа составляет жизнь семьи, где есть он, она и их сын. Жизнь семьи прослеживается в смене поколений, которая, в свою очередь, неотделима от потока истории. С суровой поступью мировой истории в романе контрастирует хрупкость и уязвимость частного бытия. Так, отец пытается растолковать своему собственному сыну, что когда тот расточает комплименты любимой девушке, он добивается лишь обратного результата. Из романа выясняется, насколько всё непросто в мире любви.
Так обстоят дела не только в судьбе влюблённого подростка (ещё не обретшего отрезвляющего опыта), но и в судьбе старшего поколения. Отец с горечью обнаруживает невольное охлаждение в своих взаимоотношениях с матерью ребёнка, в свою очередь, не преуспевающего в любви. Внешне кризис отношений между мужем и женой выражается в том, что она не обсуждает с ним свои покупки и вообще не посвящает его в свои траты.
Этот хрупкий, уязвимый, полный проблем семейный мирок контрастирует в романе с пугающей огромностью вселенной, куда волею богов брошен человек.
Роман Исакжанова в известной степени построен в качестве беллетризированного трактата о семье как о проблемном и животрепещущем явлении.
И если художественный жанр в журнале – роман - приобретает интеллектуальный смысл, то документальный жанр – литературные мемуары – приобретает в «Дружбе народов» художественный смысл. Повествуя о личностях, просиявших в советскую (а отчасти – и в постсоветскую) эпоху, Борис Минаев в своей мемуарной прозе – «Мои чужие тексты. Главы из будущей книги» – повествует о реально-исторических лицах и явлениях. Однако они настолько ярки, что документальная проза Минаева предстаёт одновременно как факт художественной литературы.
В прозе Минаева представляют интерес литературные портреты людей выдающихся. Так, в главке «Шеймович» изображено реальное лицо – писатель, за плечами которого недюжинный опыт работы в геологоразведочных экспедициях. Его произведения, как свидетельствует Минаев, мало «проходимы» в жёсткие рамки советской цензуры. И не то, чтобы Шеймович критиковал советскую действительность – отнюдь нет. Однако он берёт из реальной жизни такие неправдоподобные и экзотические факты, что остаётся непонятным, как это всё можно печатать. В известном смысле Шеймовичу инкриминировали отказ от художественной правды во имя правды факта. Собственно диссидентом от литературы Шеймович не был – свидетельствует Минаев.
В главке его будущей книги «Льгов и его роман» интересен не только его основной сюжет, но и авторское отступление – исторический анекдот о Бродском. Он, обжившись в Америке, фактически не принял русского писателя, пришедшего к нему с просьбой о помощи (и едва ли не вытолкал беднягу за дверь). Бродский обставил свой отказ помочь человеку с несколько циническим остроумием. Его скандальная подоплёка, очевидно, заключалась в том, что ни в какой Америке самого Бродского не приняли с распростёртыми объятиями. Он вынужден был в поте лица своего зарабатывать на жизнь, есть горький хлеб изгнания и главное, до конца оставаться всемирным скитальцем и чуть ли не изгоем (несмотря на весь свой внешний успех, включая Нобелевскую премию!). В главке «Внутри лавы» особый интерес представляет литературный портрет русского литературного критика Льва Аннинского.
Он выведен, с одной стороны, ранимым интеллигентом, а с другой – автором колких парадоксов. Как личность он был настолько интересен и многогранен, что сам Евтушенко однажды пожелал встретиться с Аннинским наедине – свидетельствует Минаев.
Тот же автор – Борис Минаев – выступает в журнале с очерком «Павлик Морозов и Кармен». Очерк посвящён как советским, так и антисоветским интерпретациям Павлика Морозова в искусстве.
В очерке Минаева интересно то, как реально-историческое лицо – в данном случае, Морозов – одновременно становится героем множества литературных мифов.
В целом же публикации Минаева представляют собой чрезвычайно цветистую литературу о литературе, русскоязычным образчиком которой может быть названа проза Сергея Довлатова – этого яркого предшественника Бориса Минаева.
Финальные рубрики журнала (которые следуют после начальной – и основной – рубрики «Проза и поэзия») содержат не только беллетризированные мемуарные свидетельства о советском прошлом, но и литературоведческие исследования, которые в совокупности составляют своего рода письменный мастер-класс для молодых писателей.
Примечательна публикация Евгения Абдулаева «В списках не значится?». Автор публикации позитивно отмечает тот факт, что в программу школьного образования вернулись многие произведения, составлявшие классику литературы советского периода. В то же время, автор публикации сетует на то, что авторы, творившие на протяжении нынешнего десятилетия и ранее, досадно проигнорированы. Неужели последние лет десять (и более) в России литературы не было? Параллельно Абдулаев сетует на то, что в школьную программу не включена эмигрантская литература – этот знаменательный факт, это масштабное свидетельство распространения русской поэзии и прозы по всему миру.
Евгений Абдулаев считает, что русскую литературу возвращают нынешним школьникам, но при этом досадно урезают.
Если Абдулаев размышляет об отечественной словесности в целом, то текстуально воспроизведенный в журнале круглый стол посвящён местным, прежде всего, кавказским литературам. Так, круглый стол в значительной степени посвящён литературе Дагестана, существующей на многих языках.
Коллективная публикация озаглавлена: «Кавказ литературный вчера, сегодня завтра». Имеется редакционная помета: «В круглом столе участвуют Яна Сафронова, Миясат Муслимова, Дарья Шомахова, Любовь Гвоздевская, Мира Таймазова».
Яна Сафронова («Случилась кавказская магия») свидетельствует о том, что при подготовке круглого стола возникали организационные (и не только организационные) трудности, однако кавказская магия помогла их одолеть.
Мисат Муслиева («Общий контур меняющейся реальности») говорит о том, что новая – постсоветская – эпоха ещё не породила новой литературы, поскольку у писателей не хватает художественных средств, чтобы воссоздать нынешнее время. Между тем писать по-старому уже нельзя, времена изменились – считает Муслимова.
Дарья Шомахова («Литературная жизнь: действующие лица и точки притяжения») фактически вторит Мисат Муслиевой. Она говорит о поколенческом разрыве между признанными классиками, с одной стороны, и литературной молодёжью – с другой. Как считает Шомахова, не хватает среднего – промежуточного – звена между двумя взаимно удалёнными литературными поколениями.
Любовь Гвоздевская («О переводе и билингвиальном восприятии мира») говорит о проблеме перевода с кавказских языков на русский. Автор, который пишет на местном языке, неизбежно сужает свою аудиторию, а писатель, который пишет на русском языке, но недостаточно хорошо его знает, неизбежно обедняет свой авторский язык – считает Гвоздецкая.
Мира Таймазова («Новый образ творческой локации») говорит о том, что бывший Союз писателей ныне не имеет прежнего влияния. Его вытесняет интернет и другие информационные каналы, альтернативные бывшему Союзу. Причём они носят не общегосударственный, а камерный и чуть ли не любительский характер – считает Таймазова.
Таким образом дискуссия носит конструктивный, но проблемный характер. Её завершает своего рода письменный постскриптум. Он озаглавлен «P.S. от редакции «Дружбы народов». Для полноты контекста». Под этим заголовком, в частности, расположен список основных публикаций кавказских авторов, публиковавшихся в «Дружбе народов».
Одна из завершающих публикаций журнала – Валерия Пустовая «Маленьким язычком» помещена в рубрике «Критика». Статья Пустовой посвящена трагической теме – война глазами детей. Статья написана о книгах:
Андрей Бульбенко, Марта Кайдановская. Сиди и смотри. – М.: Самокат, 2023.
Кристина Кретова, Юлия Брыкова. Война v/s Детство. – СПб: Питер, 2022.
Шарлотта Жангра. Войны/пер. с фр. Нины Хотинской. – М.: Самокат, 2023.
Гаэль Фай. Маленькая страна / пер. с фр. Натальи Мавлевич. – М.: АСТ: CORPUS, 2018.
Александра Шалашова. Салюты на той стороне. – М.: Альпина Проза, 2023.
Тамта Мелашвили. Считалка /Перевод с грузинского и предисловие А. Эбаноидзе. – М.: Самокат, 2015.
Единый принцип публикации Пустовой – «Детским голосом о войне» (с. 258).
В текстовом корпусе «Дружбы народов» прослеживается единая тенденция: сначала следуют художественные публикации, а затем – научные. Однако жёсткой границы между двумя типами публикаций не наблюдается. По-своему логично, что публикация, относящаяся к художественной прозе, – Дарья Буравлева. Рассказы – помещена не в рубрике «Проза и поэзия», а в рубрике «Дружба на вырост». В подборку прозы Буравлевой вошли короткие рассказы «Альбатрос», «Лось», «Белка», «Лиса», «Первый этаж».
В абсолютном большинстве заголовков упоминаются животные, которые воплощают определённые человеческие свойства. Например, альбатросу в авторском контексте соответствует размах и свобода, лисе и белке женственность в различных преломлениях… В прозе нашей современницы животные становятся своего рода эмблемами человека. Они зиждутся на глубинных подсознательных ассоциациях между людьми и сообразными им животными.
Одной из вершин поэзии в журнале является подборка Андрея Пермякова «Памяти пир». Стихи для Софьи Оршатник». Пермяков – последовательный лирик, ориентированный на камерную эстетику. Трезвый скепсис и мысль о смерти в стихах Пермякова сопровождается улыбкой. Она, в свою очередь, выражается в некоторой игре слов. В стихотворении «Пандемия» читаем (с. 4):
«Нуждающиеся в уходе».
Далее эти слова грустно-шутливо толкуются не в смысле ухода за больным, а в смысле ухода больного; автор пишет (там же):
назло всем нашим страданиям).
Поэзия Андрея Пермякова сосредоточена на человеке.
В стихотворении Пермякова «Нытье» читаем (с. 4):
Не слишком любила.
Пермяков выступает как поэт трогательных частностей, значимых деталей в их противоположности монументально-эпическому началу.
Стихотворение заканчивается в августовских тонах (там же):
И ничего. То есть совсем ничего.
В заключительных строках стихотворения «Нытье» угадываются скептические мотивы Бродского, который любил использовать слово «ничего», его производные и его синонимы, например: «Нарисуй на бумаге простой кружок. / Это буду я: ничего внутри, / Посмотри на него – и потом сотри». Для Пермякова с его эстетикой минимализма (маленькие цветы) органично мысленное вращение вокруг некоего таинственного ничто. Однако Бродский, почитатель Цветаевой, опосредовано связан с монументальной эстетикой Маяковского, тогда как наш современник последовательно работает в камерной эстетике, а значит, в конечном счёте, преодолевает Бродского.
Своего рода эпиграфом к некоторым стихам нашего современника могли бы стать известные слова Пушкина: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Пермяков пишет (с. 4):
как телефон и жираф.
Что глупого в телефоне, удобном переговорном устройстве? Лишь некоторые коннотации глупости можно при желании усмотреть в жирафе – экзотическом длинношеем животном. Однако очевидно, что глуповат не сам жираф, порождённый природой, а его несколько абсурдная – почти произвольная – ассоциация с телефоном. Намеренно глупы (или хотя бы чуть-чуть глуповаты) не изображаемые автором объекты, а их причудливые алогичные сочетания.
Стихотворение заканчивается настолько же внутренне мотивировано, настолько и неожиданно (с. 5):
Видимо надо.
Создавая малую апологию идиотизма, Пермяков вслед за другим поэтом другой эпохи (речь идёт, разумеется, о Маяковском), противостоит позорному благоразумию.
Пермяков – поэт лирически прозрачный, но при этом не чуждый некоторой игры ума и лирической парадоксальности. В его стихотворении «Теодицея бы» читаем о том, что было бы, если б он – поэт – родился в другую эпоху. Работая с сослагательным наклонением, поэт пишет (с. 6):
(А стал очень злой, несоветский)
Добродушный алкаш – узнаваемый персонаж советской эпохи, знакомый нам, например, по кинокомедиям Гайдая. Далее следует несколько парадоксальный ход авторской мысли:
а я бы его нашёл.
Поэт пишет о религиозности, которая продолжала существовать и по-своему даже усиливалась под официальным запретом.
В целом же Андрей Пермяков – поэт глубоко лирический, но при этом парадоксально не чуждый некоторой игры и усмешки, хотя в принципе с лирическим началом мы почему-то привыкли ассоциировать серьёз.
Другой вершиной поэзии, публикуемой в «Дружбе народов» (точнее, в её 4-м номере за минувший год), является подборка Анастасии Трифоновой «В потревоженной ране». Стихи».
Подборка названа по строкам первого в ней стихотворения (с. 158):
самородки в потревоженной ране.
Иногда минимальные средства самые сильные – не об этом ли пишет наша современница, для которой крик по-своему меньше сердечного шёпота?
Деликатность творческого почерка и лирическая недосказанность – вот неизменные составляющие поэзии Трифоновой. Она намеренно не всё выговаривает…
И всё же, при всём своём вызывающем минимализме и почти нежелании говорить о сокровенной боли (которая всё-таки прорывается), наша современница периодически испытывает некоторый внутренний надлом. Подчас он связывается с непростыми соотношениями целого и части. Так, поэт пишет (с. 159):
лишь полбеды…
Поэт пишет о нестрашном, незначительном сдвиге в стройной картине мироздания, однако за ним следует нечто едва ли не душераздирающее (там же):
и миновать.
В своей прямой причастности к мировому целому поэт подчас отторгнут от родственных связей и обречён на одиночество.
В другом стихотворении поэт пишет о головокружительном катании на качелях (с. 160):
и пальцы разжимать уже не страшно.
Трифонова подчас ощущает внезапный сдвиг в ясной застывшей картине мироздания. Этот сдвиг подчас и создаёт поэта.
Он сопровождается болью, сила которой, быть может, проявляется благодаря её лирической недосказанности.
Поэтическая подборка Андрея Коровина «И ласточки вращали шар земной…» проникнута авторским чувством времени и смерти.
В стихотворении «По мотивам одной дорожной фотографии» и самая жизнь предстаёт как езда в неизвестность. Она сопровождается романтикой русской зимы (с. 93):
какие медведи лишь вольному вольная доля
Ставя под сомнение медведей (которые, впрочем, зимой спят по законам природы), поэт всё же ассоциирует Россию с зимой. А с зимой по контрасту связано чаепитие. Поэт вспоминает свою давнюю пору:
(со слоником индийским этикетка)
В данном случае слоник – это символ ушедшей эпохи, куда поэт погружается, убегая от времени, которое не возвращается вспять, но движется от прошлого к будущему.
В своём стремлении остановить время поэт подчас мысленно возвращается в пору своего безмятежного детства (с. 94):
и на мои приветы отзывались
Элегическую ноту содержит также следующая стихотворная подборка Ивана Волосюка «В брезентовой ночи». В стихотворении «Я правильно ехал с поминок отца…» поэт воссоздаёт особый уют езды в дальнем поезде, но понимает, что этот недолговечный уют таит за собой бездну (с. 129).
и чай – для обмана души.
Стихи эти страшны не только потому, что жизнь конечна, но, может быть, в первую очередь потому, что привычная для нас форма жизни носит временный характер, тогда как вечность – есть то, что нам едва ли известно досконально. Земная юдоль полна страданий. Однако она умеренно страшит нас, потому что в ней всё привычно и предсказуемо. Очевидно, для того, чтобы обжиться в вечности, мы вынуждены заранее готовиться к уходу в иной мир.
Волосюк причудливо сочетает элементы поэтики акмеизма – эмпирическую конкретику жизни – с вечным «помни о смерти» («memento mori»).
Представление о смерти, присущее поэту, опосредованно связывается с движением исторического времени. Поэт пишет о пространстве (с. 131),
неокончательно распеты
Далее по тексту следует неизбежный вопрос о том, как же распеть эти ноты. Автор отвечает на него несколько неожиданно, но от того не менее убедительно. Он говорит о музыкальных светилах, с которых не следует брать пример (там же):
вернуться к современным мукам…
Если музыка выражает ритмы эпох, их таинственный ход, то Прокофьев и Шнитке (при всех своих новациях) отобразили минувшие эпохи. А для того, чтобы постичь наше время, нужно не идти по их проторенному пути, а мучительно искать новых звуков и новых ритмов – вот о чём свидетельствует Иван Волосюк.
Его поэзия вполне традиционна по метрике, однако складывается она, быть может, не столько из книг, сколько из реального авторского опыта. Вот почему она всё-таки подчёркнуто нова, несмотря на всю свою, казалось бы, традиционность.
В журнале присутствует также рубрика «Наступит праздник. Участники мастерской АСПИР на страницах «ДН». После вступительных слов Галины Климовой и Александра Переверзина в коллективной рубрике опубликованы тексты участников поэтического конкурса.
В подборке Мирославы Бессоновой «Словесный рой» особо значимы взаимоотношения текста и подтекста, взаимоотношения того, что сказано и того, что не сказано. Поэт пишет (с. 172)
наступит праздник милые
Однако за декорациями прорывается нечто иное, страшный зов (там же). Поэт пророчит (там же):
распиливать скелет
Слова у Бессоновой таинственно роятся, а то, о чём хотел сказать автор, угадывается по принципу литературного ребуса.
В подборке Антона Васецкого «Роли второго плана…» опровергаются затверженные истины и утверждается нечто заведомо не самоочевидное, подчас добытое страданием. Говоря о своей былой предвзятости по отношению к низовым жанрам и второстепенным ролям, Васецкий неожиданно заключает (с. 173):
про невысокий жанр.
Иные поэты прошлого – словами Блока – стремились к тому, «Чтобы от истины ходячей / Всем стало больно и светло». Наш современник стремится высказывать неходячие истины.
В подборке Ильи Виноградова «Дома и лодки» высшая естественность противостоит неестественности как результату цивилизации.
И тепла добротою леса!
– восклицает поэт (с. 174).
В подборке Максима Глазуна «В побеге от самоповтора» явлена контрастная соотносительность повторяемости – спутницы рифмы и ритма – и свежести, которую несёт в себе истинная поэзия.
Поэт пишет, по-новому работая с традиционным материалом (с. 176):
в радиоэфире
Далее следует возможная аллюзия на фильм Шукшина «Печки-лавочки». Поэт продолжает (там же):
волосы седые
По своей эстетике поэты – участники литературного конкурса, проводимого под эгидой «Дружбы народов», – минималисты. Они зачастую отказываются от знаков препинания, а подчас и от глаголов, стремятся к краткости, к экономии словесных средств. Сказанное свидетельствует о том, что в поэзии сегодня востребовано частное бытие, ведь оно неизбежно связывается с минимализмом.
И лишь в подборке Евгения Дьяконова «Сквозь жизненный лёд» ощущается полнокровный поэтический пульс и мощное дыхание. Поэт стремится к прорыву сквозь холод и серость (с. 177):
Листья, листья, зачем вы покинули пиршества сада?
В стихах Дьяконова природа величественна, но холодна и внутренне враждебна человеку. Области судьбы и природной предопределённости у Дьякова противостоит личностное начало.
Далее следует подборка Павла Сидельникова «Во всём домашнем». Ей сопутствует ницшеанский мотив «вечного возвращения», прежде всего, речь о метафизическом возвращении всего живого под родной кров. Поэт пишет (с. 179):
и плачет лишь о нём.
Коллективную публикацию завершает подборка Анны Харлановой «И жизнь продолжается под облаками».
Живописуя свою среду обитания, поэт пишет (с. 180):
И стать без тебя счастливой.
Напрашивается параллель с Ахматовой: «И если в дверь мою ты постучишь, / Мне кажется, я даже не услышу». Однако если Ахматова занимается высокими умозрениями, учится «Смотреть на небо и молиться Богу», то наша современница воспевает собственно женский обиход в его бытовой конкретности (стол протереть и др.).
Журнал «Дружба народов» как полиграфическое – и смысловое – целое показывает, что литературная жизнь – не есть просто совокупность текстов. А что же она такое? Она есть и некое ценностное поле. Ценностные координаты прозы и поэзии задаёт литературная критика, публицистика. По сути, она представляет собой окололитературный пласт словесности, который как бы прилагается к прозе и поэзии и одновременно – влияет на них.
Так, литературная критика и публицистика в журнале «Дружба народов» – и конкретно в его четвертом выпуске за минувший год – свидетельствует, с одной стороны, об этнокультурной индивидуальности тех или иных уголков мира, а с другой – об их неизменной причастности к мировому целому. Так, например, Сидней в документальной прозе Макса Неволошина связывается с почти пушкинским – а значит, универсальным – представлением о пустыне мира, сквозь которую человек обречён идти. Америка в мемуарной прозе Бориса Минаева связывается с почти байроническим скитальчеством, юдолью Бродского, поэта эмигранта.
Круглый стол, посвящённый, главным образом литературе Северного Кавказа, по своему смысловому полю связывается с интеграцией северокавказской литературы в некий русский универсум (вопрос адекватных переводов с кавказских языков на русский).
Примечательно не только то, что этнические смыслы в журнале не носят самодовлеющего характера и по существу связываются с единством человечества до Вавилонской башни. Не менее примечательно и то, что публицистика журнала как окололитературный феномен задаёт смысловые координаты собственно литературных публикаций журнала.
Так, проза журнала – например, роман Исакжанова «Проскинитарий» – в значительной степени посвящена борьбе человека за место под солнцем, которая неизменно имеет как этнически локальную, так и общечеловеческую стороны. Мы можем сказать, что местом обитания героя Исакжанова является вселенная и в то же время справедливо, что местом его обитания является некая трогательно-хрупкая семейная ниша. Поэтому логично, что и в других произведениях прозы журнала – например, в рассказе Татьяны О. Филатовой «Пантюх» – присутствует мотив погони человека за вечно ускользающим счастьем. Причём счастье территориально локализовано и одновременно общезначимо. Не случайно в рассказе Александра Жданова «Мектуб, китаб, катиб» специфика узбекской ментальности, ориентированной на заранее срежиссированные браки, сложно контрастирует с общечеловеческим представлением о счастье.
Таким образом, в прозе журнала общечеловеческие смыслы и ценности географически локализованы, достаточно упомянуть российскую глушь или Узбекистан.
И если в прозе журнала большое значение имеет география – спутница пространства – то в поэзии журнала неизмеримо много значит время – седой Хронос, соразмерный вечности. Не случайны, например, элегические ноты и черты советского ретро в стихах Андрея Пермякова или Андрея Коровина. Любопытно, что в его стихах распространённый в советский период чай – со слоником этикетка – связывается с некоторой географической экзотикой («Известно, что слоны в диковинку у нас» – когда-то усмехался дедушка Крылов).
Однако поэзия журнала далека от соцарта. Она существует на хрупкой границе, отделяющей время от вечности и смерти. Достаточно упомянуть о поезде, едущем в мир иной, из стихов Ивана Волосюка или об опасно подвижных качелях из стихов Анастасии Трифоновой.
Если смысловому полю прозы журнала соответствует пространство, то смысловому полю поэзии журнала соответствует время на стыке, на границе с вечностью и смертью.
Журнал «Дружба народов» как смысловое целое свидетельствует: каждый уголок, каждый закоулок вселенной трогательно неповторим и одновременно – связан с мировым целым, каждый сладостный миг бытия неповторим и неизменно связан с незримой вечностью.
В своей индивидуальности различные этносы тянутся друг к другу, памятуя о единстве человечества, и одновременно стремятся сохранить «лица необщее выраженье» на мировом фоне – вот то динамичное ценностное и смысловое поле, которое задаёт читателю журнал «Дружба народов».
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети