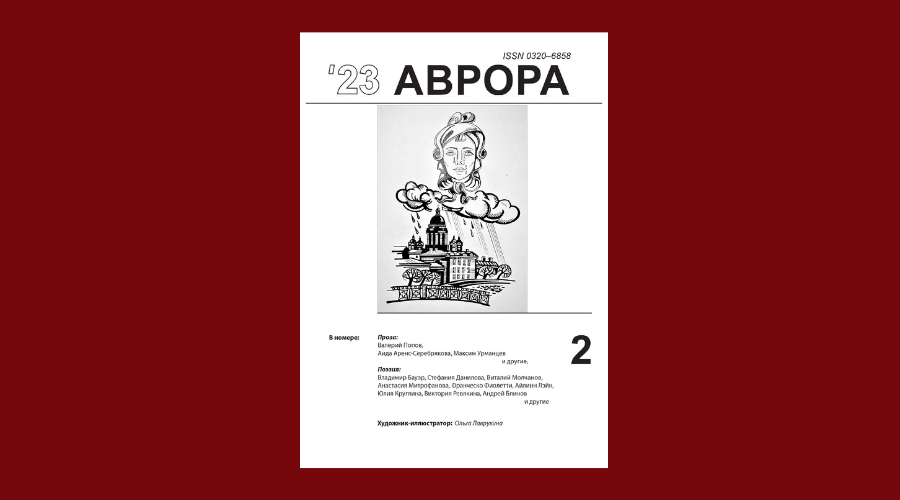«Аврора» № 2, 2023
Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Аврора» издается с июля 1969 года в Санкт-Петербурге. Выходит 6 раз в год. Тираж 700 экземпляров.
Кира Грозная (главный редактор, отдел поэзии), Илья Бояшов (заместитель главного редактора, отдел прозы и публицистики), Стефания Данилова (рубрика «Дебют»), Ольга Лаврухина (художественный редактор), Анна Хромина (технический редактор), Дарья Розовская (корректор), Виктория Ивашкова (верстка). Редакционный совет: Валерий Попов (Председатель), Владимир Бауэр, Андрей Демьяненко, Вадим Лапунов, Вячеслав Лейкин, Татьяна Лестева, Даниэль Орлов, Виталий Познин, Дмитрий Поляков (Катин).
Мы могли бы играть в кино
Львиную долю авторов выпуска объединяет то будущее, которое они мечтают обрести, а вот их героев – нередко погоня за кораблем-призраком, который представляется Птицей счастья. Персонажи Валерия Попова – рафинированный интеллигент и дворовый хулиган – стремятся к жизненному успеху в непростые для Империи времена всеми тропами, от криминала до высокого искусства, от изготовления фальшивых денег до поисков писательской славы. На этом пути они теряют всё, кроме веры в свою фортуну. Герои исторической повести Вячеслава Власова «Рандеву с мадам Мишель» – фрейлина при дворе августейшей семьи, мечтающая поймать в свои сети придворного немолодого князя, музыкальный критик Серов, добивающийся приезда своего кумира, Вагнера, в Россию, и сам великий композитор, которого, увы, влечет в далекие страны не романтика, а прагматический интерес. Тетя Капа из рассказа Натальи Колмогоровой «Капочка, вернись!» верит, что начнет свою жизнь заново, вернувшись после войны на малую родину, где уже нет ни того дома, ни тех людей. Телефонный разговор со старой подругой вызвал воспоминания и ностальгию в ее сердце, но действительно ли желанная жизнь будет такой, как она воображает? Прекрасная вещь Аиды Аренс – Серебряковой «Письмо из папки спама» рассказывает о тех, у кого красивого будущего не оказалось. Юноша с хрупкой душевной организацией свел счеты с жизнью в эмиграции, страдая депрессией после потери отца. А его мать-учительница разматывает запутанный клубок своей очень разной советской жизни, тщетно ища ответ на мучительный вопрос: «Почему?» Рассказ Максима Урманцева – про «украденную судьбу». Чтобы спасти нежизнеспособного младенца, известный врач бросается на помощь, вняв мольбам (а возможно, и предложенным капиталам) убитого горем отца, и сложная операция с переливанием помогает: счастливчик будет жить! Однако в это же время от менингита умирает другой пациент, которого, возможно, спасло бы своевременное вмешательство. Мы уже не узнаем истины: жалость, финансовый интерес – или Провидение сыграло на руку одному и против второго. Но пройдет много лет и они, на беду, встретятся: чудом выживший игрок в преферанс, прожигатель жизни – и брат погибшего, семья которого разрушилась после той трагедии.
Поэзия номера представлена новыми голосами, которые словно бы призывает известная поэтесса Стефания Данилова в своей балладе «Ангел необстрелянных городов». Одаренный детский поэт Елена Шумара находит позитив даже в откровенно печальном: однообразной жизни старушек, вдруг превратившихся в птиц и улетевших в снегопад, играх маленькой девочки, которую мать-перфекционистка лишает самых простых радостей. Сетевой автор Франческо Фиолетти рассказывает нам про внутреннее устройство жука; волшебница Айлинн Лэйн верит, что однажды старинная сказка укажет путь уставшей от жизненных невзгод героине; талантливые пародии-стилизации Владимира Бауэра расширяют наши представления о жанре: есть чудесные вещи, вызывающие сожаление об избранном «низком» ключе.
Публицистика представлена воспоминаниями об известном тренере «Спартака» В.П. Кондрашине (Константин Осипов) и очерком Виталия Даренского о творческом пути педагога Ушинского.
Лучшей прозаической вещью номера, хотя выбрать было трудно, назовем рассказ Аиды Аренс – Серебряковой, потому что он выходит далеко за рамки советской истории о любви двух школьников, разлученных принципиальными взрослыми, превращается в историческую трагедию, имеющую много подслоев, но ничего дидактического или очевидного. Среди поэзии привлекает внимание подборка Елены Шумары – ее потенциал детского автора мог бы заполнить вакантную нишу в давно ожидающем составе, потому что только благодаря удаче в принципе возможны некоторые вещи. Попади поэт не в то направление или русло, и его дар юмориста или пародиста легко уйдет в другую область, а детская аудитория понесет невосполнимую утрату.
Стихотворение Олега Голубева, открывающее номер, как бы задает лейтмотив: тема волшебства, книжной культуры, преображения заурядного через творчество. Мотиву книжной культуры вторит баллада Стефании Даниловой, говорящая об открытии новых граней мира посредством адаптации книжного опыта к жизни: «И книжный червь – любой из нас – пусть станет дождевым!»
Мемуарная повесть Валерия Попова «Бросил пить и приоделся» тяготеет к жанру, именуемому в моей юности одесской прозой, – иными словами, хулиганские похождения с легким налетом криминала. Довелось слышать, что его основоположником на послевоенном пространстве, в котором победители фашизма смешались с прошедшими лагеря политзаключенными, стал «Роман о девочках» Владимира Высоцкого. Питерский рафинированный интеллигент 60-х Валерка связывается с приблатненным однокашником Фекой, ставшим не то его дружком, не то подопечным, не то «крышей» еще во времена школьной поры. Это «единство непохожих» исследует мир легких (на самом деле нет) связей, мелкого мошенничества, дворовых стычек, а затем и замеса покруче. Дорожка, ведущая одаренных и умелых людей в аккурат в места не столь отдаленные, сбрасывает с себя сына педагога и врачихи в мир искусства и литературы, а вот Феке, несмотря на все кульбиты, от судьбы не уйти.
Полные грустного юмора, легко читающиеся, проникнутые ностальгией, в чем-то забавные эпизоды в несколько журналистской манере письма охватывают почти всю жизнь героев – от школьной скамьи и первой тяги к красивой жизни до перестройки, серьезных финансовых махинаций, развала их семей и гибели родителей. Понимаю, что необходимо упомянуть Довлатова, о котором у автора повести вышел роман в серии ЖЗЛ в 2010 году, и влияние которого на прозу Попова, конечно, присутствует, однако у меня произведение больше отозвалось миром Высоцкого. Романтика криминала и прибогемная среда соединились в одно, породив неповторимый типаж творческого интеллигента позднесоветского пространства. Образованного, но легкомысленного, авантюристичного, но не готового к беспределу 90-х, обладающего известной ловкостью и внутренней культурой, но занимающего промежуточное положение между «всегда в строю» родителями и гиперответственными детьми.
Небольшая подборка Стефании Даниловой «Швеи, путеводной ниткой шьющие наживую» касается трагедий современности, это очень личные и вместе с тем универсальные для трудных времен стихи. Фантастическая баллада «Ангел необстрелянных городов» – фантазия о том, что таланты и возможности людей, которые не дожили своего срока, могли бы мистическим образом перейти к другим желающим, которых спасли бы в трудный момент. «Я вас любила» обращено к людям, отношения и близость которых погубили идейные разногласия.
Повествование исследователя творчества Рихарда Вагнера Вячеслава Власова «Рандеву с Мадам Мишель» в занимательной, но несколько адаптированной форме (я бы назвала ее просветительской) рассказывает читателю об эпизоде из жизни известного композитора. Фрейлина великой княгини Елены Павловны навещает музыкального критика Александра Серова, который надеется на приглашение Вагнера в Петербург. Дело за гонораром, необходимым композитору. Сумма приводит в смущение своим большим размером местную филармонию. Этот комический эпизод становится предлогом для аудиенции фрейлины у князя Долгорукова, отвечающего, как бы мы сейчас выразились, за безопасность августейшего семейства. В ходе их беседы читатель узнает о содержании наиболее популярных опер Вагнера, о некоторых особенностях его биографии и значении для мирового искусства. Автору текста нельзя отказать в остроумии и умении погрузить читателя в атмосферу эпохи. Однако его книга, обладающая определенным идеалистическим флером, имеет черты произведения для юношеского чтения.
Актуальный рассказ Натальи Колмогоровой «Капочка, вернись!» имеет незамысловатую сюжетную линию. В город Донецк собирается вернуться уехавшая перед началом боевых действий тетя Капа, которая уже начала новую жизнь в Челябинске. От ее дома на малой родине ничего не осталось, а на чужбине есть хорошая работа и родилась внучка… Тем не менее, по-советски трогательная подруга юности Фая предлагает поселить ее у себя, потому что овдовела и есть лишняя комната. Текст представляется написанным немного в стиле «душевного ретро», потому что в капиталистическом мире как вечная дружба, так и бескорыстные знакомые с питанием и проживанием – явление не частое. Сам по себе рассказ укладывается в канон пусть немного идеалистической, но все же бытовой прозы. Хотя, если придираться, можно указать, что патриотизм немолодой женщины по отношении к городу, из которого она уехала в трудную минуту, теперь оказывается сильнее любви к маленькой внучке – ее она тоже оставляет, на этот раз из-за укоров подруги. Невольно закрадывается сомнение в глубине чувств такого человека.
Стихи к XVIII Санкт-Петербургскому международному книжному салону представили Алексей Ахматов, Юлия Сайко и Елена Качаровская. Их тексты тематически связаны с открывающими номер Голубевым и Даниловой. Это «советская» тема о погибших и спасенных книжных героях, воспетая когда-то Михаилом Светловым, размышления о смысле книжной культуры для современника.
Живи не зря.
(Качаровская)
Сильный и очень верный с точки зрения психологии «коллективной травмы» рассказ прозаика Аиды Аренс – Серебряковой – находка номера. Он о теме вины, о «неудобном прошлом», которое тяготит самых достойных на первый взгляд людей. Когда-то в старших классах на излете 70-х у начитанной и обаятельной учительницы-интеллигентки с высокими принципами, продукта своей эпохи, появилась любимица «из народа». Ученица, которую она обучала декламации, даже домой приглашала, радовалась ее успехам, как дрессировщики радуются понятливому зверьку. Но вдруг оказалось, что ее сын, тихий мальчик, влюбился в девушку. И учительница в ужасе выгнала «развратницу», сменив былое обожание на выдуманный ею самой «образ врага»: ее сын – и какая-то сомнительная школьница! Прошло 25 лет, и учительница написала письмо своей бывшей ученице, которая давно забыла и про унижение, и про незаслуженный позор, прожила другую жизнь в другом городе. И даже не может вспомнить цвет глаз «Ромео», в фантасмагорическом совращении которого ее обвиняли – какая ирония! Дело в том, что этот человек погиб, свел счеты с жизнью. Вряд ли причины были романтическими: не сумел адаптироваться после эмиграции, потерял отца, депрессия, абсурдно винил себя… Но мать, пережившая их обоих, начала разматывать свое прошлое, вести работу горя. Искать причины двух несчастий, корни которых уходили вглубь. В своей скорби она приписала себе роль злого гения, которого Небеса карают за чужую разрушенную любовь, принесенную в жертву высоким принципам, также порожденным искажающей личность системой. И героиня не знает, что написать этой убитой горем и раскаянием стареющей учительнице, потому что несчастный мальчик не оставил яркого следа в ее памяти! Он действительно объяснился с ней напоследок, сказав, что любит ее, но никогда не переступит через запрет матери и лгать столь близкому человеку не может, и потому говорит с ней в последний раз и прощается. Один лишь Бог знает, не запустило ли именно тогда радикальное решение учительницы разлучить любимого сына с дворовой девочкой – для его же блага! – саморазрушительный механизм в хрупкой психике скрытного юноши.
От «кондовой» советской прозы, посвященной школьной любви, которую разрушают взрослые, рассказ отличает глубина, многоплановый ракурс, риторизм. Здесь нет однозначности, простых ответов, это не мемуар, не дидактика, психологизм ориентирован вовсе не на юношество. Жизнь – она не как фильм, не как книга, где есть набор сюжетов и свод правил, а более сложный организм, – вот, видимо, о чем этот текст.
Поэт родом из Тбилиси Владимир Бауэр выступает в роли пародиста – некоторые произведения его, отрываясь от «низкого» жанра, достигают самоценности, например, прелестное:
я парубок, и с психикой все в норме…
Здесь ощущается даже какой-то пушкинский буколический мотив. В то же время другие тексты заставляют читателя думать о мере собственной испорченности или о зоильской личине даже самого одаренного сатирика. Невольно появляется печаль, что очевидно одаренный поэт уделяет столько внимания сему началу. С другой стороны, в наше время даже чистый жанр пародии уже мало возможен, становится пограничным приемом, который концептуалисты наделили всеми правами полноценного лирического творения.
Рассказ Максима Урманцева представляется как нельзя более тривиальным – «пляжной прозой», да еще в советском стиле. Компания мужчин среднего возраста расчертила пульку во время речного круиза по Волге и травит байки. Однако писатель не так прост! В этой заурядной обертке спрятан вопрос об основаниях бытия, о неведомой связанности судеб и о Том, Кто их связывает. Выясняется, что один из участников игры имел внутриутробный конфликт резус-факторов, шанс его на выживание был крошечным. Однако специалист по переливанию Абесгауз чудесно спас его едва теплящуюся жизнь. Вдруг мы узнаем, что этот же самый специалист шел, чтобы помочь брату другого игрока, но, при виде старика, стоящего на коленях в мольбе спасти новорожденное дитя, побежал в другой дом. Второй же пациент по иронии в это время умер. Несчастный брат покойного обвиняет выжившего «бывшего младенца» в том, что тот «украл чужую жизнь». Его дед наверняка попросту перекупил врача большою суммой, сыграв на его ахиллесовой пяте – жадности. Один из зрителей заявляет о «шизофрении подобного мышления», и, в общем, мы с ним солидарны. Однако вопрос о случайной связанности судеб и причудливой колоде остается открытым. В сущности, одни присутствующие – сторонники того, что можно «просчитать Господа», если играть умело. Другие же воспринимают подобный образ мыслей как болезненный. Все это отсылает к «Фаталисту» Лермонтова, если искать в классике. Вечный вопрос и причина, по которой он волнует писателя, нам очевидны, но – нет ему ответа.
Подборка стихотворений Виталия Молчанова «Дорога сделалась легка» может быть отнесена к руслу советской сентиментальной традиции. Его поэзия взывает к людским сердцам при виде скорбей мира – от затоптанной пьяницей калечной птицы до ребенка с ДЦП, которого, видимо, не принял отец. Если сюжетно такой ключ нам знаком по творчеству Асадова или Светлова, к примеру, то лексическое и ритмическое своеобразие Молчанова говорит о его индивидуальности.
– Смахни, простудит.
Стихи Юлии Круглиной (Непомнящей), ученицы Стефании Даниловой, создают двоякое впечатление. Хочется назвать ее поэтом «с зарядом», с потенциалом, в то же время есть чувство недосформированности ее как автора. Психологическая подростковость, темы бунта против семьи, реализации себя в большом мире, смысла и бессмысленности – традиционные для поэтики Даниловой, но развившиеся у нее в особый стиль и даже имидж. Здесь, у Круглиной, они представляются пока тенденцией. Однако при таком энергетическом сгустке, ощущающемся в ее текстах, хочется думать, что однажды мы увидим рождение этой звезды.
Ольга Надточий и Юлия Рубинштейн продолжают тематику книг и чтения в рамках программы книжного салона.
Публицист Константин Осипов, пишущий о спорте, предлагает читателю воспоминание о тренере В.П. Кондрашине. Это биография ленинградца, детство которого пришлось на блокадные годы, а от криминального пути спасло увлечение баскетболом, приведя героя к тренерской славе и заслуженному месту в летописи мирового спорта. Путь учителя «Спартака» не состоял только из триумфов и людских оваций. Это также рассказ о зависти коллег, о конкуренции, о цене успеха, об истинном лице представителей профессиональной среды.
Рубрика «Дебют», которую ведут поэты Кира Грозная, Стефания Данилова и Владимир Бауэр, представляет подборки шестерых молодых авторов. Для них публикация в «Авроре» стала первым серьезным шагом в журнальном мире. Как кажется, наибольший интерес представляет Елена Шумара, скрывающая потенциал прекрасного детского поэта. Эта ниша до сих пор имеет вакантным почти весь первый ряд, потому что настоящие детские поэты, как и одаренные юмористы, рождаются гораздо реже, нежели чистые лирики или гетероморфные авторы. Знаю, сегодня многие против «специализации» в литературе, но я пребываю в старомодном убеждении, что существует особый дар видения и выражения детского мира. Творчество Шумары, питерского сценариста, актрисы, педагога и, видимо, очень разностороннего человека, конечно, не производит впечатления «пробы пера». Это сложившийся автор. Ее юмористически-печальная, для детей, но не совсем детская поэзия немного напоминает советские переводы английских народных поэтов с точки зрения сюжета и приема. Читая про летающих старушек, мы вспоминаем про скрюченных кошек. Лексическое своеобразие и многообразие, а также скрытая меланхолия не позволяют говорить об эпигонстве.
попой сверкая. Я бы хотела тоже.
Франческо Фиолетти – достаточно известный сетевой поэт «эстетического» направления, поклонник сонетного лада, у которого красота стиха и определенный стилизационный элемент преобладают над дидактикой или публицистичностью. Его поэзия – приятная и изящная безделушка, выполненная с достаточным мастерством, но ведь не факт, что смысл искусства должен упираться в бытийственные глубины.
он чувствует ли запахи весны?
Анастасия Митрофанова, педагог высшей школы, москвичка и выпускница главного вуза страны, получила бы шуточное звание «лучшего поэта номера», если бы первенство присуждалось за силу чувств. Она талантливый и весьма сильный, но увы, тематически тривиальный поэт, еще и «попавший в струю». Сегодня такая лирика называется фем-поэзией, в прозе подобный автор относится к автофикшн. На самом деле ничего «революционного» в теме жестокого обращения с женщиной нет, даже если речь ведется от лица жертвы или ее условной сестры по несчастью. Бытовое насилие, нелюбовь, скачущие кони… Наверное, после баллады Анны Долгаревой о Яське, которую били-били, но не разбили все ее родственники по очереди, у других поэтов меньше шансов на «новое слово» в этом направлении. Это нечестно, но литература вообще несправедлива: нередко поэт второго ряда выходит в первый лишь потому, что больше никого не дала эпоха – и наоборот.
Горемычное лезло счастье.
Айлинн Лэйн (Наталья Романенко) – московский поэт, одна из финалисток «Всемпоэзии». Ее творчество напоминает эстетику Резной Свирели – пример талантливой эскапистской лирики, выстроенной вокруг сказочных пространств, начиная с Андерсена и братьев Гримм и заканчивая общеевропейским фольклором. Экспериментальное вплетение «рифмованной прозы», ролевые мотивы, вариации стилизованных легенд, – все это пришло в журнальную культуру из сетевой.
у нас в саду расцветет голубая роза.
Интересным представляется творчество самарского автора Виктории Ревякиной (Демидовой). Судя по биографии, этот поэт многое изучил самостоятельно, его приоритет – социальная сфера. В каком-то смысле это «наследница» Мальвины Матрасовой или Cherry. Тексты В. Ревякиной представляются растущими из личного опыта, они лишены «избыточной художественности», «поэтизма», скорее уж их можно обвинить в псевдонародности. Самобытная авторская натура, используя даже традиционный сценарий, добавляет новеллистический финал или неожиданный ход. Это психологически сложившийся, но как бы несколько корявый на уровне языка автор – впрочем, последнее может быть приемом-мостиком к читателю, вспомним арсенал Cherry.
Лежит в твоей. И в этом наше счастье.
Подборка Андрея Блинова «Этот вещий сон…» скрывает в себе бардовскую лирическую ноту, мотивы странничества, поиска родственной души, который ведет в неизведанное пространство. Философские сюжеты развиваются на основе взаимоотношений двоих. Существуют архетипические сюжеты, эксплуатируемые литературой вне зависимости от «лагеря», поэтому объединять авторов по принципу обыгрывания сходных мотивов – очень уловный ход. Блинов обращается к сюжетам о прокураторе, о всемирном потопе, об одиночке и толпе и т.д. Иногда говорят, что это типично для «альтернативной литературы», в годы советизма использующей миф и бродячий сюжет для прикрытого выражения своих мыслей и чувств по отношению к современности. Но в действительности ларчик может открываться проще – и для поэтики автора просто свойственно тяготение к этим основам.
А у нас все не так, прости.
Как мы видим, в этом выпуске «Дебют» объединил разных авторов – детского поэта и фем-поэтессу, барда и эстета, «сказочницу» и «народный» голос. Возможно, это задумка руководителей, «цветение всех цветов», желание создать не хор, а букет индивидуальностей.
Луганский профессор Виталий Даренский рассказывает нам о жизни и деятельности великого педагога К.Д. Ушинского, когда-то обучавшего наследника престола, и своеобразно проецирует его постулаты на современность. Действительно, если задуматься, сама идеалистическая мысль получить «совершенного христианского интеллигента-подвижника» в наши дни выглядит немного неуместной. Именно отраслевое образование (как раз то, против чего восставал знаменитый педагог в пользу всестороннего формирования личности) стало мейнстримом. Появился даже анекдот: «Как хирург он не очень, но зато человек удивительно порядочный и искренно верует!» Сама идея, что некие духовные качества (хотя, безусловно, были великие интеллигенты, ими обладавшие, такие как Алексей Лосев, Сергий Булгаков, Григорий Померанц и многие другие) важнее для человека, чем его прикладное значение, в наши дни становится спорным вопросом. Проверить, «сколько верующих среди верующих» – затруднительно, а вот насколько человек хороший врач или архитектор, очевидно. Таким образом, идеи великого гуманиста, как и любое утопическое представление во благо, надежда на формирование исключительно порядочного, честного, не тщеславного, не амбициозного, но в то же время способного на любовь к Отечеству, к народу, к Богу индивида, на мой взгляд, не может быть «массово реализована». Профессор Даренский мечтает применить учение Ушинского к современным реалиям образования, и конечно, это очень достойная и заслуживающая уважения инициатива, но в то же время вечная надежда вырастить «нового, лучшего человека» уже столько раз приводила к таким разным результатам…
Историк Илья Бояшов рассказывает об удивительных деяниях Святого Игнатия Брянчанинова и жизни монашеской братии.
Поэт и переводчик Кира Османова рассказывает о сборнике стихотворений Бориса Бартфельда «Corpus solidum / Осязаемое тело» (ОГИ, 2022).
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети