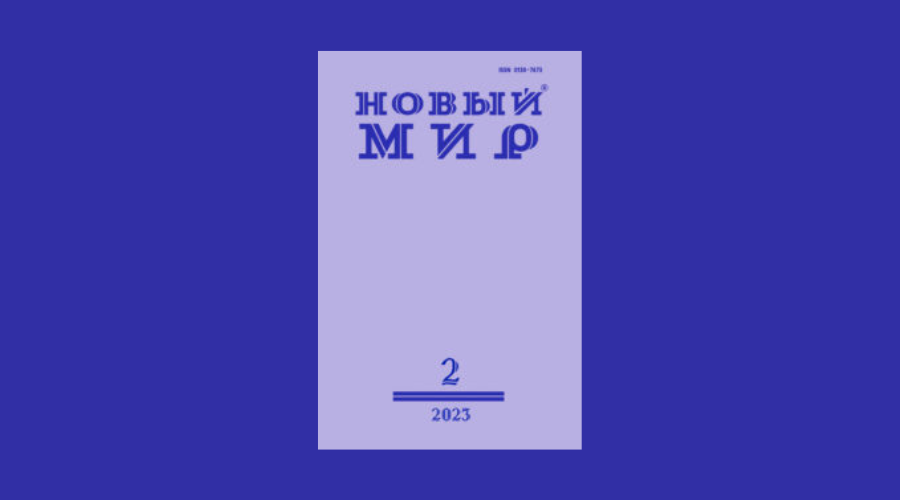«Новый мир» № 2 (1174), 2023
Литературно-художественный журнал «Новый мир» издаётся в Москве с 1925 года. Выходит 12 раз в год. Тираж 2000 экз. Публикует художественную прозу, стихи, очерки, общественно-политическую, экономическую, социально-нравственную, историческую публицистику, мемуары, литературно-критические, культурологические, философские материалы. В числе авторов «Нового мира» в разные годы были известные писатели, поэты, философы: Виктор Некрасов, Владимир Богомолов, Владимир Дудинцев, Илья Эренбург, Василий Шукшин, Юрий Домбровский, Виталий Сёмин, Андрей Битов, Анатолий Ким, Георгий Владимов, Владимир Лакшин, Константин Воробьёв, Евгений Носов, Василий Гроссман, Владимир Войнович, Чингиз Айтматов, Василь Быков, Григорий Померанц, Виктор Астафьев, Сергей Залыгин, Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Руслан Киреев, Людмила Петрушевская, Ирина Полянская, Андрей Волос, Дмитрий Быков, Роман Сенчин, Захар Прилепин, Александр Карасёв, Олег Ермаков, Сергей Шаргунов и др. В журнале дебютировал с повестью (рассказом) «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын (1962, № 11).
Андрей Василевский - главный редактор, Михаил Бутов - первый заместитель главного редактора, Марианна Ионова - редактор-корректор, Ольга Новикова - заместитель заведующего отделом прозы, Павел Крючков - заместитель главного редактора, заведующий отделом поэзии, Владимир Губайловский - редактор отдела критики, Мария Галина - заместитель заведующего отделом критики.
Нелинейность времени
Подборка Владимира Салимона «Доверься сердцу» открывает февральский номер «Нового мира». Её особенности – короткая строка, верность силлаботонике, ударения в непривычных местах, безыскусная, небрежно-шероховатая рифма («прискорбно-больно», «слыхал-видал») при классической схеме рифмовки «авав». Звукоцентричность – самая яркая черта этой подборки. Слуховые впечатления доминируют над зрительными, особенно в первой её части. Ноябрьская вьюга шумит, синица барабанит в окошко, листопад «шебуршится», кошка стонет во сне... Звуки вытесняют визуальные образы, смещая привычную пропорцию. За ними проступает образ живого, меняющегося, текучего мира. Поэтическая и человеческая работа вслушивания осмысляется как способ взаимодействия с мирозданием, как способ его познания. В этом кроется новизна. Таков, например, звуковой портрет Москвы, увиденный детской оптикой:
вблизи Москва-реки отважных...
Образ столицы явлен через городской шум, распадающийся на отдельные опознаваемые звуки. Пароходные гудки верифицируют наличие реки рядом; их отсутствие обнаруживает ненастоящую или призрачную природу Москвы-реки, придавая флер мистичности всему очерку города. В этом вслушивании различима и детская тоска по странствиям и приключениям. С преломлением детских воспоминаний в звуке соотнесено еще одно стихотворение подборки: «Прижав колени к животу, / мальчишкой прыгал я с обрыва, / и сонная вода в пруду / вскипала, словно после взрыва». Здесь артикулирован опыт, до сих пор живой и актуальный для говорящего. Эквивалентом страха в мире звука становится неотвязный и раздражающий фоновый писк-звон:
приняв его за комариный.
Подборка представляет предельные звуки эмоционального спектра: обыденно-повседневные («Что может быть прекрасней, чем сквозь сон / услышать, как, собравшись за водою, / соседка металлический бидон /в коляске катит улицей пустою!») и драматические, роковые, как в следующем стихотворении:
звон колокола и гудок.
Звуковой поток стихотворения начат грозой, затем ассоциативно переносится на перрон, где голоса провожающих и шум поезда, скрежет и стук колес по нарастающей приводят к тревожной звуковой кульминации «звон колокола и гудок». В русском сознании набат соотносится с угрозой существованию. Онтологический статус звука высок и за счёт упоминания Бога, который слышит неслышимое людям.
Вторая часть подборки отмечена рефлексией над временем и возрастом, неторопливым обживанием в пространстве старости. Появляется мотив памяти об ушедших, элегическая интонация:
я с ним смирился, свыкся, сжился...
Финальное стихотворение подборки – авторская вариация на тему горациево-пушкинского «Памятника», хотя и без прямой апелляции к поэтической традиции. Упоминание читателей-современников (Ср.: «Читателя найду в потомстве я…» у Баратынского), сама камерность светового круга от лампы снижает риторичность высказывания. Идея служения у Владимира Салимона связана с отказом от молчания: «Когда так горестно – никак / нельзя сидеть, сложивши руки…» Фигура поэта-пахаря (в аллюзивном диалоге с цветаевским «В поте – пишущий, в поте – пашущий…») актуализирует мотив несвоевременности творчества, его устремлённости в будущее:
ни дни, ни месяцы, а годы.
На перекрестье эссеистики, мемуаров и литературной критики находится публикация Вл. Новикова «Профи. Филологическая проза» в «Новом мире» (начало в «Звезде» и «Урале»). Нераспавшаяся связь времен – лейтмотив этих записей. На страницах «Филологической прозы» оживают фигуры литераторов Юрия Кузнецова, Алексея Парщикова, Елены Шварц, Вениамина Каверина, Мариэтты Чудаковой и многих других. Недалеко, через «одно рукопожатие», отстоят от автора в пространстве и во времени Тынянов и Бахтин, о которых он также пишет. Не просто легендарные имена, а эмблемы литературных течений и школ. Автору интересно всё, что происходит на границе литературы и жизни: странности и слабости литераторов, их взаимоотношения друг с другом и с языком.
Нескрываемо ностальгические пассажи посвящены бурной литературной жизни 80-х: первая статья автора в «Вопросах литературы», реакция объектов его пародий, встречи с редакторами газет и журналов, живая реакция современников на публикации: «А весной 1981 года печатаю в «Новом мире» статью о Бахтине «Слово и слава», приуроченную к выходу его книги «Эстетика словесного творчества». В день выхода номера сразу звонит составитель книги Сергей Георгиевич Бочаров (в чем-то согласен, в чем-то не согласен), а потом вообще телефон не смолкает. Был такой обычай на Руси – звонить друг другу по поводу публикаций». Воссоздание атмосферы бурлящей интеллектуальной жизни в сочетании с точностью наблюдений фиксируют уходящую, уже ушедшую эпоху литературной жизни страны.
Помимо мемориальной составляющей, в «Профи» различимы микрожанры. Среди них: максимы или афоризмы («Зло предсказуемо, добро парадоксально»); литературные анекдоты (например, про некоего Л., главреда тогдашнего «Литературного обозрения», принципиально не читающего то, что сам редактирует); теоретические пассажи (рефлексия над языком, интерпретация тыняновской «тесноты стихового ряда» как главного критерия поэзии, размышления о филологическом романе и жанре эссе и так далее); лирические отступления об иррациональной природе творчества; лингвистические этюды о выражениях из семейного языка с краткой историей происхождения etc.
К непринужденному разговору с читателем располагают свободная эссеистическая форма, филологическая игра на всех уровнях текста и авторское чувство юмора: «Чтобы приняться за дело, мне надо прямо с утра принять. Натощак души. Для этого на столе, слева от клавиатуры, стоит какой-нибудь напиток. Это может быть Тютчев, Сологуб, Бенедикт Лившиц – к постоянству я не склонен. Бродского «Урания» недавно хорошо шла – в день по бокалу-стихотворению. Чувствую, что слово здесь иногда не поспевает за мыслью или картинкой, но все равно питательно. Гармоническая монотонность бытия. Но, чтобы выпрыгнуть из себя и из горизонтальной обыденности, нужна все-таки рюмка Сосноры или Айги. Ну, и Хлебникова, конечно, часто пригубливаю, но уже не натощак, а по ходу писанья».
Подборка бурятского поэта Амарсаны Улзытуева «Иммортализм» продолжает февральский номер. Мощная стихия – вольный дух номадической цивилизации гуляет по этим страницам. Соотнесённость лирического «я» с планетой, субъект-субъектные отношения с природой представлены в стихотворении «Лимба, очень протяжно. Село Санага»:
Жеребёнок по мне не бежит…
Местный национальный колорит в избытке представлен и лирическими сюжетами, и лексикой, и особым бурят-монгольским типом рифмы – анафорой в начале строки. Бурятская поэтическая традиция сконденсирована в стихотворении «Барлалга» – «Величание» (древняя ритуальная песнь, восхваляющая чемпионов по стрельбе из лука).
Гое да-а, бара боро-о да-а...
Это лирический очерк национального праздника сурхарбан, где состязаются борцы, лучники и наездники. Динамичные кадры репрезентируют мужской, раскатистый и яростный мир: «Борцы – за загривки, наездники – вскачь, / Заветную цель выбивает меткач…» С самого заглавия стихотворение принципиально двухголосо, двуязычно. Его начало – текст народной песни в оригинале. Другой способ вплетения «чужого слова» в своё – «древняя песня авгура», вступающая в текст ближе к финалу, маркированная кавычками (как цитата), сменой ритма и размера. Бурятские слова в ней тоже присутствуют, но не сплошным потоком, а вкраплениями. «Чужая» (для читателя) речь с её распевным удвоением гласных, повторяющимися фрагментами звучит экзотично, но и завораживающе. Героический эпос о богатырях, воспевание силы и удали – точка понимания, делающая этот текст близким человеку любой культуры.
Язык воспроизводит древние формулы эпического славословия герою: «Гой еси гоё да-а: Исполать тебе, ловкий мэргэ`н!» Наплывающие временные слои создают эффект смещения. Причем фигурой их пронизывающей, объединяющей прошлое-настоящее-будущее становится поющий старик, носитель памяти народа. Именно вещий старик – дирижер этой драмы. Его директивы задают темп и накал борьбы: «Туже тяни тетиву, молодец…. Точно без промаха бей». А в финале все успокаивает, примиряет его колыбельная. Детское состояние убаюканного мира поддержано звукописью – аллитерацией на «л»: «так тихо, так Ласково пеЛ он, / как будто баюкая стреЛы, / и Ласковей нету на свете ведь цеЛом, / чем коЛыбельная стреЛам...»
Предназначение певца-поэта и мир, который подлежит воспеванию – в основе лирического сюжета стихотворения «Соловей»:
Эти трели, галактик спирали клубя…
Диалог лирического субъекта с Богом строится нетрадиционно: обычно в поэзии человек взывает к Богу, Бог либо немотствует, либо его ответ амбивалентен. У Амарсаны Улзытуева требовательно вопрошает сам Творец: «Сможешь ли так?» Испытующему Богу ответствует поэт-соловей, по-видимому, пребывающий и в средневековье, и в античности, во всех временах одновременно. И хотя именно его ответ оформлен как косвенный, непрямой, экзистенциальная напряженность – «воплем немым» сопровождает предстояние человека перед «светом неугасимым» (где короткая строка, сам её обрыв как маркёр предельного состояния). Эта готовность услышать, принять Зов – условие контакта.
Поэтическая традиция уподобления поэта соловью очень почтенная. Впрочем, соловей в улзытуевском изводе совсем недолго остаётся собственно соловьем – пожалуй, только в заглавии. Всё остальное время он эмблема творческого начала, квинтэссенция музыки сфер. Способность соловья петь предъявлена как мерило поэтического в поэте. В финале соловей внезапно персонифицирует планету («И тектонику плит литосферных под пухом…») и одновременно Творца. Через соловьиные свисты и рулады выговаривает себя само мироздание. Обнаруживаются и приметы космогонического мифа: соловьиные трели клубят «спирали галактик». Так образ соловья получает грандиозную космическую развертку. Инерция восприятия в особенности сломана «скафандрами»: пусть крылатые, они как будто из другого словаря.
Спирали галактик, равно как и «священные свитки», которые космический соловей свивает из звуков, неочевидным образом конвертируются в другом стихотворении этой подборки:
Извиваться под простынёй девой морской...
Стихотворение неуловимо уитменовское по строю и интонации. Это как будто верлибр, но аккуратно поделенный на строфы, как будто без рифмовки, но она есть – внутренняя («Извиваться под простынёй девой морской») и анафорическая, в начале каждой строки. Поэтические интуиции Амарсаны Улзытуева направлены на постижение природы времени, работы времени, эта категория – одна из смысловых доминант подборки.
Говорящий находится внутри времени, оно вращается вокруг него, создаёт завихрения. Девушка, на которую он смотрит особым видением из точки неподвижности, пребывает в «безмятежном вневременье». Девушка, изъятая из временного потока, неуязвимая для возраста, обладает способностью чувствовать, воспроизводить и персонифицировать красоту мира. Она соприродна Земле («одеваться в моря и леса»).
Сравнение с защитными слоями «капустки» оплотняет абстрактное понятие – измерения. В середине «капустки», как мы знаем, находится неразвернутый еще завиток, сверток будущих возможностей. Это метафизика самой юности как особого, капсульного состояния мира. Так тугая спираль из универсальной модели времени-пространства переходит у Амарсаны Улзытуева в персональную метафорику, выявляя недовоплощенное, утаенное и потаенное.
Раздел прозы февральского «Нового мира»» продолжает рассказ Елены Долгопят «Почерк». Это мистическая проза с детективной составляющей. Завязка интригует: ВГИК, 1989 год. Руководитель сценарной мастерской Юрий Степанович среди работ абитуриентов обнаруживает рукописные тексты некоего Игоря, как будто написанные почерком его друга Егора Ильина. Талантливый сценарист и писатель, Егор попал под поезд и погиб много лет назад. Совпадает не только почерк, но и стиль, и даже фабулы рассказов. Заинтригованный, Юрий отправляет своего ассистента, «доброго и тихого» Андрюшу на поиски Игоря, поскольку тот не явился на экзамен.
Молодой человек быстро выясняет, что тексты действительно пишет погибший Егор, вселяясь в Игоря против его желания и разрушая жизнь юноши. Игорь обречён записывать чужие истории, затем сжигать написанное и восстанавливать снова. Но рукописи, как водится, не горят, тайны из прошлого преследуют живущих. По мере того, как расследуется дело, на сцене появляются бывшая жена Егора Наташа, загадочно погибшая за 5 лет до его смерти, и третий друг Леонид, в юности, как и Юрий, влюбленный в Наташу. Исповедальные истории друзей об их общем прошлом подвергает сомнению сам Андрюша. С надёжностью рассказчиков в «Почерке» вообще всё непросто.
Шестеренки повествования движутся благодаря любопытству Андрюши, его желанию докопаться до истины. Логика криминального расследования определяет его перемещения в пространстве: квартиры Игоря, Леонида и Юрия, библиотека, рукописный отдел Музея кино, архив уголовных дел. Андрюша выясняет, что в момент гибели Наташи в лесном овраге под Муромом и бывший муж Егор, и (возможно) тогдашняя жена Юрия Лара, и сам Юрий находились неподалёку. Объект расследования-исследования Андрюши – погибший Егор, «нежная душа». Мертвый герой в рефлексии живущих проживает свою эволюцию: благодаря рассказам, где герой проговаривается о себе, благодаря самовозрождающемуся архиву, благодаря воспоминаниям, где живые пытаются приблизиться к его тайне. Свидетельства разных людей достраивают фигуру умершего и одновременно расщепляют ее: Егор двоится-троится-клубится-плывет. Такой тип сборки героя коррелирует с его мистическим чувством времени.
Потому что самое любопытное в этом тексте – авторская концепция времени, самозабвенные игры с ним. Странность времени в рассказе Елены Долгопят растёт из многих точек. Это и герои, которые выглядят моложе своих лет (Андрюша, Наташка), и герои, чей возраст изменчив (Егор). Это и нарратив, прерывающийся флэшбэками, где соотношение истории и предыстории явно в пользу последней. Наплывающий хаос чужих жизней упорядочивают точные даты, имитирующие достоверность: «Андрюша отправился на встречу с Игорем 22 сентября 1989 года». Но невзирая на эти демонстративные фиксации, время ведёт себя весьма пластично. А виноват Егор. Во-первых, ему дано чувствовать соприсутствие темпоральных пластов, улавливать изменения до того, как они произошли: «– Осень начинается в разгар лета. Не замечала? А ночь – в разгар дня. Смотришь – за окном солнце золотит чего-то там, торопишься, выходишь – уже темно, фонарь золотит…» Ощущать осень в разгар лета, ночь в разгар дня, смерть и увядание в цветущей юности, финал любви в начале семейного счастья – особый дар героя.
Во-вторых, герой обладает властью над временем, в его присутствии оно течёт иначе. Время слипается, растягивается, деформируется: «И тоже все очнулись ночью, как будто рассказчик (или рассказ) переключил время». Время как бремя и способы его преодоления – внутренний сюжет этого рассказа («Не любил он быть привязанным ко времени. Как будто якорь тянет вниз, – так он говорил»).
Пожалуй, главная загадка и поворотная точка сюжета – исчезновение Егора после полугода счастливого супружества: он внезапно уходит «за хлебом» и не возвращается несколько месяцев. Эпизод исчезновения Егора продублирован в двух его рассказах внутри рассказа. Уход разрушит брак: «…а когда в прекрасный майский вечер Егорка вернулся, то в комнате ни Наташки, ни ее вещичек не обнаружил. Соседка со злой радостью сообщила, что Наташка подала на развод и переехала к какому-то режиссеру в просторную квартиру на Лаврушинском». Сам эпизод подозрительно напоминает фольклорный сюжет о трансформации времени при визите на кладбище в русской народной сказке «Мёртвый друг»:
«Жених смотрит: где было кладбище, там стала пустошь; нет ни дороги, ни сродников, ни лошадей, везде поросла крапива да высокая трава. Побежал в деревню – и деревня уж не та; дома иные, люди все незнакомые. Пошел к священнику – и священник не тот; рассказал ему, как и что было. Священник начал по книгам справляться и нашел, что триста лет тому назад был такой случай: в день свадьбы отправился жених на кладбище и пропал, а невеста его вышла потом замуж за другого».
Итак, в царстве мертвых время течёт иначе. Впрочем, временные аномалии в рассказе Елены Долгопят не обусловлены попаданием героя в иной мир (хотя хронотоп «свадьба/похороны» об этом). Искажения времени Егор генерирует сам. Лёгкость, невесомость присутствия в жизни, стратегии ускользания дают ему глубинное понимание природы времени, если не освобождение от него. Но и цена велика: иссякание творческого потенциала, алкоголь, одиночество и, наконец, капитуляция перед жизнью – встреча с поездом.
Можно сказать, что «Почерк» – это рассказ-вопрос, рассказ-вопрошание. Бесконечные вопросы задаёт себе и собеседникам Андрюша. С Андрюшиной рефлексией соотнесены у Елены Долгопят ключевые философские вопросы наших дней, такие как идентичность («И почти (почти) уже непонятно Андрюше, кто он, – молодой человек, который сидит и смотрит на закипающий чайник, или чайник, стоящий на синем газовом огне»), отношение сознания и тела, реальность сознания: «В полудреме Андрюша вспомнил, как пятилетним мальчиком проснулся ночью и увидел свою маленькую руку. Она лежала на одеяле, а он смотрел на нее как на чужую. Пошевелил пальцами. Рука оказалась послушна». Андрюша вообще благодатный персонаж: им удобно «ходить», за ним приятно наблюдать, он делает почти избыточным авторский голос.
Вопросы останутся и у читателя. Что хочет сказать мёртвый живым? Почему Егор вселялся именно в Игоря? Как на самом деле погибла Наташа? И, если уж дать волю исследовательскому азарту, – имеет ли отношение военное детство Юрия Степановича к добротным американским ботинкам, пропавшим с места преступления.
Поэтические тексты Ольги Ивановой «вдохновеннее вдохновенья» Из цикла «Стихослужения стезя», опубликованные в февральском номере, сопровождает пометка «В подборке сохранены авторская пунктуация и орфография». Особенность ее творческого почерка – это различные языковые эксперименты. Они снижают предсказуемость текстов, но повышают узнаваемость авторской манеры. Графические и лексические игры начинаются с самого заглавия, где сошлись жирный шрифт и курсив, где привычное «стихосложение» преобразилось в «стихослужение». Дальше – больше: квадратные скобки, дореволюционная орфография (стихотворение «голос») и частичный отказ от орфографии, перестановки, обрывы и пропуски слов, вариативность прочтения («з(с)ияющая дыра»), склейка слов плюс просторечие («всюдужись» – «всюду жизнь») архаизмы рядом с современным сленгом etc. Графическое оформление расставляет смысловые акценты и задаёт условия, при которых происходит поэтическая коммуникация, не обещающая лёгкости.
Высокая аллюзивность – еще одна особенность подборки Ольги Ивановой. Начало «Илиады», ахматовский «ветер с моря» и набоковский «весь в черёмухе овраг» встретятся читателю и будут узнаны. Зачастую парафраз маркирован самоиронией и иронией: «лица необщим выраженьем» (Баратынский) – «рыльца необщим выраженьем» у Ивановой, «Я царь – я раб – я червь – я Бог!» (Державин) – «[я царь/я раб/я червь/я рад]» у Ивановой. Также каламбурически переиначиваются фольклорные устойчивые формулы, фразы из популярных песен. Расхожие выражения образуют смысловые пунктиры с редукцией подразумеваемых звеньев. Отсюда насыщенность, интенсивность, плотность письма.
А вот о предметном мире в этой подборке говорить не приходится. Вещность, поэтизация быта вынесены за скобки. Речь идёт преимущественно о жизни духа, и она бесплотна:
ничего бессмысленней нелюбви.
В другом тексте о любви говорится иносказательно, через цепочку «военных» метафор, где лирическая героиня предстаёт в роли осаждённой крепости:
любовь
последнее «прочти»...
Текст диалогизирован обломками речевых клише, которые читательское сознание достроит само, рефренами-подтверждениями сказанного («да-да»), императивом («войди в меня»). Показательна смена адресата речи в финале: стихотворение обращено уже не к любви/возлюбленному, но к читателям текста, причем этот переход оформлен как уточнение или примечание «со звездочкой».
В стихотворении «с виду рожица нехай и хороша» также присутствуют опознаваемые признаки поэтики Ольги Ивановой – особое графическое оформление текста, сознательное искажение орфографии, коллажирование разностилевой лексики («рожица» и «нехай» на одном конце спектра, церковнославянское «внидешь» на другом):
догорай, моя лучина, догорай
Разговор с душой о предельных вещах начинается с самоиронии, со сниженной лексики, с пренебрежения внешним и временным: «с виду рожица нехай и хороша». Песенный фольклорный ритм задан стихотворным размером претекста Виктора Сосноры, но дополнительно аранжирован бытовой уличной интонацией, ёрническим городским говорком, демонстративной установкой на разговорную речь. Здесь тоже преобладает императив, но в уменьшительно-ласкательных формах, формах мягкого уговаривания.
Текст крепко прошит звукописью, внутренними рифмами («рожица-можецца», «надёжи-одёжи», «подпорочки-корочки»), перехлестнувшимися далеко: «косыночку» и «тростиночку» находятся на почти одинаковых позициях в разных строфах. В финале параллелизм и акцентированные повторы «умирай моя личина, умирай/ догорай, моя лучина, догорай» манифестируют внутреннюю готовность к смерти и даже несколько нетерпеливое её ожидание. Так «лучина» Виктора Сосноры, взявшая авторский текст в кольцо, стала и эпиграфом, и постэпиграфом, и лейтмотивом стихотворения Ольги Ивановой. Впрочем, безысходное отчаянье и горечь претекста («Да гуляй, моя последняя тоска, / Как и вся больная родина моя!» В. Соснора) унаследованы не в полной мере.
Эта форма саморефлексии – монолог, обращённый к душе, выводит говорящего на метапозицию по отношению к своей жизни. Но подведения итогов нет, они не важны, потому что в рай можно войти и «прихрамывая», потому что значимо то, что ты делаешь сейчас, а не оценка прошлого. Несмотря на язык, далёкий от благообразия, на уход от патетики и догматических тонкостей, это авторское высказывание носит отчётливо религиозный характер и принадлежит к духовной поэзии как образец русского христианского стоицизма – призывом к смирению («под косыночку вихры поубирай»), мотивом преодоления мирских соблазнов («да с блесною, аки рыба, не играй»), наконец, принятием смерти как жизни вечной. И даже как единственно подлинной жизни, когда сквозь умершую личину вполне по-цветаевски проступит лик. Отсюда ощущение торжества, празднования преодоленной смертности в развязке этого лирического сюжета.
«Длинная проза» февральского номера представлена повестью Марианны Ионовой «Неправильные цветы», с повествованием от первого лица и неторопливым темпом ретроспективной семейной истории. Временные рамки – от 1990-х годов до пандемии, до современности. Посвященный отношениям самых близких людей, внимательный ко внутренним состояниям, текст Марианны Ионовой предполагает лирическую тональность. Вместе с тем в «Неправильных цветах» легко можно увидеть и признаки очередной истории о травме: детство в криминальные 90-е, гиперопекающая мать-абьюзер, вина за болезнь брата, в результате осложнений навсегда оглохшего («В пятнадцать лет Коля заразился от меня свинкой»). Работа над собственным и семейным прошлым движется по двум траекториям – его исследование-проговаривание и его выпрямление, потому что сама героиня то и дело отрицает травму, оправдывая мать, верифицируя «нормальность» своей семьи и своего детства, объясняя одиночество личным свободным выбором.
Повесть Марианны Ионовой – высказывание о своем поколении нынешних сорокалетних, попытка выявить его матрицу. В этом пограничном поколении цветут «неправильные цветы», не слишком приспособленные к реальной жизни, отказавшиеся от семьи и деторождения, не делающие карьеры, охраняющие свой капсульный мир от внешних вторжений. Но умеющие «раздвигать небо». Если имена героев – это оммаж Марии Галиной («Всё о Лизе»), то в некоторых точках повесть Марианны Ионовой пересекается с хрестоматийным романом Маркеса «Сто лет одиночества»: угасающий род (Лиза приняла решение не выходить замуж, Коля бесплоден), любовь сестры и брата (у Маркеса пара Хосе Аркадио Буэндиа и Урсула), Колина печаль, которая сопровождает его всю жизнь, и даже увлечение Хосе Аркадио дагерротипией, а Коли – фотоискусством. Но с магическим реализмом «Неправильные цветы» имеют очень мало общего: единственное фантастическое допущение состоит в том, что в нашем мире может существовать такой странный, такой особенный Коля. Благодаря ему реальность если не мерцает, то помигивает.
Изображение непременно богатого духовного мира человека «с особенностями развития» не новость: традиция прослеживается от тургеневского Герасима и короленковского «Слепого музыканта» до романа «Дом, в котором…» Мариам Петросян и далее. Коля гениально фотографирует и не менее гениально воспринимает изобразительное искусство. Парадоксальные изломы, причуды его восприятия, экстравагантность и артистизм, интровертность и эмоциональная взвинченность, дар создавать и слышать внутреннюю тишину (при этом по-детски страстная увлечённость пустяковыми вещами), визионерское понимание искусства (при этом неумение почувствовать обман в житейских делах) дают требуемую этим героем разноплановость. Текст вообще «колецентричен»: Лиза ловит, как просвечивают друг сквозь друга разные Коли, регистрирует всё Колино мимолётное и ускользающее – гримасу, жест, взгляд, интонацию или её отсутствие. Неустойчивые внутренние состояния Коли составляют летучее вещество этой повести.
Кроме того, линза, сквозь которую Лиза смотрит на Колю, хитро устроена, как бы вывернута назад. Реконструкция мироощущения брата (объяснение реакций, деяний и недеяний, его слов или молчания), по сути, задаёт реверсивный повествовательный вектор. Зачастую Лиза видит Колю своими детскими или подростковыми, то есть прежними глазами, с обязательной ремаркой про «сейчас»: «Закономерность, которая управляла его любовью, я вычислила позднее…» Из этих переоценок и переосмыслений, постфактумных прозрений складывается особый длинный синтаксис Марианны Ионовой: неоднократные перебивки, самоуточнения, дополнения, ответвления основной мысли.
Собственное Колино слово о себе противоречиво и непрозрачно, от отрицания принадлежности к субкультуре глухих, от апофатических утверждений («Я не профессионал», «А я ведь не могу назвать себя мужчиной») до провокативного утверждения тождества с картиной Ива Кляйна «Монохромный синий»: «Я смотрел на него, не знаю, наверное, полчаса. И потом приходил каждый день, вставал перед ним и смотрел. Это я, понимаешь? Этот синий цвет – я сам!» Коля проговаривается о себе и о своём через картины как минимум трижды. Кроме «Монохромного синего», симптоматична рецепция знаменитых цветов Яковлева, давшая заглавие повести («Они такие неправильные! – любовно восклицал Коля про головастые и косолапые цветы Владимира Яковлева. – Живые цветы тоже не идеально правильные. – Нет-нет, я о другом! Они… как юродивые, понимаешь?») плюс двух картин Павла Кузнецова – «Рождение» и «Голубой фонтан»: «У него еще есть картина «Рождение», там не видно фонтана как такового, только бассейн, а и не лица-тени на переднем плане, а в глубине у воды призрачные фигуры, то есть не призрачные, а наоборот. Они не после смерти, они до рождения. И этот фонтан, он где-то, где все, что еще не воплотилось. Мне всегда было так тихо, когда я на нее смотрел. Я даже забывал, что не слышу».
Две Колиных ипостаси – творца и созерцателя – реализуются через его отношения с фотографией и живописью, причём в динамике и эволюции, от «раннего» к «позднему». Пространство выставок, музейных залов, длинные вереницы имен фотографов и художников разной степени маргинальности, парадоксальные суждения Коли об увиденном составляют особый слой и особую прелесть «Неправильных цветов». Искусство предстаёт не служебным фоном, а метасюжетом повести. Можно помечтать о таком издании, как роман «Один человек» Алексея Макушинского, где цветные репродукции упомянутых картин можно увидеть в конце книги.
Искусство и разговоры о нём, кровное и духовное родство создают вокруг брата и сестры некое подобие купола или «шатра», как обозначает это Лиза. Остальной мир за его тонкой, с прорехами тканью мало волнует обоих, главное – воздух между ними, то незримое, что притягивает. Категория воздуха сама по себе очень значима у Марианны Ионовой. Она включает пустые пространства без людей на Колиных фотографиях, зияния и разрывы там, где должны быть связи Лизы с людьми, лакуны в разговорах, которые не заполняются годами. Из воздуха состоит та среда, которая в восприятии Коли освобождает от тягостного земного: «Мне приснилось, будто мы превратились в птиц и улетели». С воздухом соотнесено самоопределение Коли «в поле ветер», которое он в попытке опровергнуть лишь подтверждает.
По накалу нежности мне казалось, что это текст мемориальный, что брат умер. Но Коля в финале жив и почти здоров, хотя всё сильнее впадает в детство, сестра всё очевиднее замещает мать (Коле уже 46, Лиза младше на 10 лет):
«Коля сидел в постели, красный, с приоткрытым перекошенным ртом, у него текло из глаз и из носа, но он плакал беззвучно и, только когда звал меня, где-то под его голосом хлюпал плач.
– Лиза, не уходи!
Коля протянул ко мне руки. Я залезла на кровать, отпихнула альбомы и обхватила его, мне было мало только моих рук, мне хотелось обнять Колю собой.
– Коленька, мой мальчик, мой маленький!..»
Колин отказ от взрослости оформляется в рецидив побега из дома, в попытку вырезать имплант слухового аппарата из головы (и символически, и практически это не что иное, как уход в свою глухоту-глубину, ну и манипуляция, конечно). И наконец, отмечание Нового года в леопардовом пальто – весёлый акт непринадлежности к миру людей, праздник непослушания.
С одной стороны, перед нами недолюбленный матерью пожилой мальчик, лузер. С другой, откуда-то (от Коли в кожаном, под Джима Моррисона, костюме? От Коли-леопарда?) возникает ощущение Коли освобожденного. Коли, делающего неправдой любое оформленное мнение о себе. Коли из измерения «Голубого фонтана» – того «беременного будущим» (Мандельштам) пространства ещё не воплотившихся возможностей, в которое он, по-видимому, нашел проход.
Пейзажно-философская лирика омского поэта Дмитрия Румянцева продолжает февральский номер. Подборка озаглавлена «В ночных пространствах». В ней нет заглавных букв, нет деления на строфы, частично упразднена пунктуация при сохранности рифмовки. Для поэзии Дмитрия Румянцева характерна апелляция к общечеловеческому опыту, к архетипам мировой культуры (отсюда «рамаяна», «сфигна», «панафинеи» и др.) при чёткой фиксации личного пространства, надышанного кружочка на морозном стекле. Так выглядит обживание уютного микрокосмоса в стихотворении «ночи декабря»:
куплю на рынке ветку винограда
переберу, как список кораблей
трещит мороз, я убегаю в книги
и волосы – созвездья – вероники
сулят триумфы музыке Твоей...
Лирический герой этой подборки воспринимает смену времён года как большую божественную игру – например, в карты или в шахматы, где говорящий и участник, и наблюдатель: «гроссмейстерской волей – что пешки сметаемы с поля – в поля / когда я и конный, и пеший спешу разглядеть в тополях / полоски квадратного света – проигранной партии лета» (стихотворение «партия»).
Опавшие листья, вечный поэтический символ бренности жизни, вечный источник метафор, Дмитрий Румянцев вертит так и эдак: кроме пешек, сметаемых «с поля – в поля», они предстают колодой карт («и бурый крап ночного листопада»), кораблями («бригантины твои в обмелевших прудах / ветер топит и топит»), расплавленным металлом («хотя золотом полон наш тигль»), птицами и душами («на амальгаме тонких луж / что стая уток перелётных, что выводок заблудших душ»), письмами («лети, листва, как письма с фронта, сгорай, но тонкий мир не рушь!»).
Осенние стихотворения подборки решены в минорной тональности, ассоциированы с «сырым воздухом прощаний» и даже с возможной смертью (заметим, опять идёт игра!):
драгоценные слитки ноябрьских дубров
но сомнительны их миллионы
загадает загадку природный дибров
и глядит благосклонно:
отгадаешь? так будешь и жив, и здоров
и успешен до нового лета
ну, а нет – так умрёшь до больших холодов
и не медли с ответом!
Лето же соотнесено с Эдемом: «и кажется, что лето – лучше рая / и благодать на землю пролита». При этом бабье лето осмысляется почти как жизнь после смерти, прощальная милость: «минуло лето жизнь обманула / но бабье лето как вторая жизнь».
Подвижное равновесие и взаимопроницаемость промежутков внутри годового цикла заданы противоборством антропоморфных образов, как в эталонном тютчевском «Зима недаром злится». В стихотворении «в холода» лирический сюжет победы зимы над летом представлен метафорически через включение исторического контекста – нашествия Батыя на Русь:
снег летит и летит, что батыева конница
мы в плену у ордынки-зимы
опрокинута лета пернатая звонница
где стрижи занимали взаймы
звонкий колокол солнца у грозного воздуха
грозового в купальский сезон
а теперь – лишь полозья скрипучих ворон
да боярыня наша морозова
троеперстье зимы: декабря – января –
февраля до творожных сумерек –
земляная ли яма владыки-царя
где всё горе нам мыкать, о, суриков?
Возможно, это не самое удачное стихотворение подборки – да, в нём есть тавтология («занимали взаймы»), спорная рифма («воздуха-морозова»), неочевидно обоснованная смена ритма к финалу. И тем не менее оно заслуживает разговора как поэтическое высказывание о современной зиме, увиденной с необычного, дальнего ракурса.
Зима выступает как часть национального русского кода (отсюда «мы», «наша») и как маркёр северной идентичности автора. Персонификация зимы переключает исторические контексты – сначала она «ордынка», затем, по понятному ассоциативному переходу, «боярыня наша морозова». Так наряду с условным «ордынско-батыевским» пластом в тексте отчётливо проступает «раскольничий»: с земляной ямой, где погибла мятежная боярыня, и троеперстьем – краеугольным камнем церковного раскола.
Раскольничий сюжет разрастается за счёт последней, «суриковской» строки. Картина «Боярыня Морозова» вполне осязаемо присутствует в русской поэзии, будь то ахматовское стихотворение, с которым совпадает даже рифма («в сумерках-Суриков» у Ахматовой, «сумерек-суриков» у Румянцева):
Мой последний напишет путь?
Или мандельштамовское «На розвальнях, уложенных соломой…» (да, мандельштамовских аллюзий много в этой подборке). От «дровней» Ахматовой и «розвальней» Мандельштама у Румянцева только полозья, но их вполне хватает для опознания саней, в которых везут боярыню. Примечательно, что ворона, помимо усиления звукового образа – скрипа полозьев, отсылает к истории создания суриковской картины («А то раз ворону на снегу увидал... Сидит ворона на снегу и крыло отставила, черным пятном на белом сидит. Так вот эту ворону я много лет забыть не мог. Закроешь глаза – ворона на снегу сидит. Потом «Боярыню Морозову» написал»).
Метафорические звонница с колоколом обладают двойной недопроявленностью, потому что мы не можем с точностью сказать, в каком времени они существуют – во времена Батыева нашествия, церковного раскола или сейчас. Соотнесенные с летом и солнцем, они обладают приметами вечности. Вертикаль звонницы – ось, пронзающая исторические времена, организующая их единство. И она опрокинута. Кроме того, паронимически сближенные «грозный грозовой воздух» и риторическое вопрошание в финале «земляная ли яма владыки-царя / где всё горе нам мыкать, о, суриков?» намечают конфликт личности и власти, оформляясь в метарефлексию над национальной судьбой. В целом всё это создаёт ощущение драматичной картины вневременной русской зимы. Зимы-плена, зимы-ямы, зимы кромешной. Авторской румянцевской зимы.
Следующая публикация – рассказ Михаила Тяжева «Пассажирка» – оставляет ощущение недосказанности. Лапидарный стиль, живые и концентрирующие энергию диалоги, открытый финал – признаки этой прозы.
Никита Кузнецов («сорокалетний худой мужичок среднего роста, с впалой грудью и горбатым носом») зарабатывает частным извозом. Жена его бросила, дочь Лера уехала в Москву учиться на актрису. У него появляется постоянная пассажирка – странная женщина со своей тайной, женщина с прошлым, которого он не знает. Ранними утрами Никита возит её к местам стоянок грузовиков, где она переписывает их номера. Она щедро платит, он не задаёт вопросов. Затем возникает конфликт, пассажирка расторгает контракт и исчезает, при окончательном расчёте вместе с деньгами уронив на снег кулон с портретом ребёнка. Из случайного разговора Никита узнаёт, что недавно арестовали актрису, которая прокалывала шины грузовикам, мстя за гибель сына в ДТП. Поиск этой женщины приводит Никиту в психиатрическую больницу в Ляхово. Его к ней не пускают, отдать кулон тоже нельзя. Но разрешено подойти к окну и показать кулон. Финальный эпизод приведу целиком:
«Кузнецов вытащил кулон и поднял его, улыбаясь чему-то. Дежурная подвела к окну бритую наголо женщину и объясняла ей, что-то показывая на него. Но улыбка пропала с лица Кузнецова – это была не пассажирка. Другая женщина, и лицо ее было полностью отрешенным от мира. Он опустил руку, как вдруг глаза ее вспыхнули и лицо переменилось. Она припала к оконной раме и забарабанила по стеклу пальцами, широко открывая рот, рыдая и моля его о чем-то. Дежурная была у нее за спиной и всем своим видом показывала ему, чтобы он поднял руку с кулоном. Кузнецов не понимал. Тогда психи тоже стали задирать руки, прося его сделать так же…Он неосознанно приподнял кулак вверх, кулон покачивался на цепочке. Незнакомка успокоилась, смотрела на него и улыбалась, психи – тоже. Дежурная сделала ему знак большим пальцем, что он молодец».
Пассажирка олицетворяет тайну, дышит ею. Даже резкий переход от надменной роковой красавицы к сошедшей с ума от горя актрисе (если допустить, что это один и тот же человек) происходит так странно и непредсказуемо, что не успевает опомниться ни герой, ни читатель. Сам Никита Кузнецов, напротив, олицетворяет всё незамысловатое-мужское-мирское. Даже дочь пеняет ему: «Я роль получила. Играю Бланш. «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса. А, чего те говорить, тебе все неинтересно». И далее мы узнаём цель приезда Леры: «– Пап, мы психов приехали изучать! У знакомой брат санитаром трудится в Ляхово. Мы договорились с ним, он мне их покажет. А то мой персонаж сумасшедшая, так мне надо знать, что у них там в голове происходит».
Итак, Лера играет Бланш. Вот она, пресловутая роль детали в структуре прозы. Героиня Михаила Тяжева совпадает с героиней Теннесси Уильямса в ключевых моментах, начиная со своего первого появления. Нездешность, буквальная невписанность в пейзаж свойственны обеим: дама в чёрном, в шляпке с вуалью, в перчатках и с сумочкой из крокодиловой кожи на краю картофельного поля у Тяжева и Бланш в аристократическом белом костюме и жемчугах в рабочем районе в «Трамвае «Желание» («Само ее появление в здешних палестинах кажется сплошным недоразумением» Т. Уильямс). С пьесой Теннесси Уильямса соотносится и развязка рассказа. Смерть близкого человека (мужа у Бланш, ребёнка у героини Тяжева) запускает механизм разрушения психики, обе попадают в «психушку». На пограничье театра и безумия готовятся сойтись в рассказе Михаила Тяжева две женские фигуры – дочь, которая готовится играть сумасшедшую, и сошедшая с ума актриса.
Помимо драматической судьбы актрисы, театральный подтекст финальной сцены включает и другие моменты. Беззвучный крик в окне и весь спектр мимики незнакомки – «отрешенность от мира-слезы-улыбка» позволяет вспомнить эстетику немого кино с его утрированными базовыми эмоциями. В то же время взаимообусловленность действий Никиты и реакций незнакомки (и конечно, психов в роли античного хора) представляет собой аналог иммерсивных театральных практик, когда зритель задействован в перфомансе наряду с актёрами. Причём актёр здесь скорее Никита. Театральный мир отрепетированных, имитированных страстей и преувеличенных реакций противостоит в этом рассказе не обычной жизни, а миру безумия, где эмоции естественны и беззащитно-искренни, как бритые головы психов.
Так, помимо своей воли герой оказывается сопричастным иррациональному миру. Симптоматично, что руку с кулоном он поднимает «неосознанно», как бы попав в групповое поле, заворожённый заворожёнными им. При добавлении безумия формула «театр-проекция жизни» переворачивается в обратную: «жизнь-проекция театра». Но стекло – стекло по-прежнему между ними.
Публикация Ивана Волосюка «Белые стерхи» – дебютная в «Новом мире», но не в толстых журналах. Эта подборка в хорошем смысле неожиданна: читая тексты один за другим, не знаешь, каким будет следующий. Не покидая территории силлаботоники (с пунктуацией, с делением на строфы, с бесперебойным ритмом и размером), Иван Волосюк разворачивает спектр всевозможных модальностей, обживает неоднородный эмоциональный ландшафт. Стилизация под блатную речь: «Фраерок один на память / выкидуху мне сулил, / оренбуржскими платками / проводницу охмурил». Метафизический нарратив, философичный и тонкий: «Это магия в слове самом / на поверхности спрятана всуе, / это тайна на месте прямом / возникает, ничем не рискуя». Ироничный, почти запанибратский взгляд на русскую словесность, её постмодернистская деканонизация: «Толстой арбузы воровал с баштана, / с деревней обеспечивая смычку, / а Чехов кофе варит из каштанов: / облил собачку и придумал кличку». А вот образец любовной лирики с подвохом:
последнюю ложь обо мне.
Сначала стихотворение оставляет условный «гумилёвский» шлейф – воспевание женщины, романтические красивости, «плечи в золотом» и «лавандовый голос». Выстраиваемый поэтом образ почти не несет земных примет: лишь глаза, голос и даже не сами плечи, а вода на них. Остальное – мягкие исчезающие следы, лёгкое касание. Героиня находится в конфликте с лирическим субъектом («расскажет лавандовый голос её / последнюю ложь обо мне»). Идеальный план, идиллический пейзаж едва проступает: «и где-то на отмели южных морей / бесшумно скользит босиком». Так обозначена коллизия её присутствия в мире: где ей предназначено быть («на отмели южных морей»), её нет, а «в квартире что в белом огне», жить невозможно. Её отношения с миром – отношения принуждения, беспомощности, несвободы. Здесь можно усмотреть актуальную повестку фемпоэзии: угнетение женщины, идея женской неполноправности. Казалось бы, всё понятно. Но ноша и повязка на глазах продолжали меня смущать, и наконец проступил еще один образ. Героиня этой ироничной истории – женщина-ослик или лошадка, которая с шорами на глазах идёт по пути, который указывает погонщик. Как будто её голос артикулирует ограничения и запреты, маленькие и большие тяготы жизни, в том числе вечные сквозняки и невозможность уехать в отпуск на море. Однако жалобы гиперболизированы и абсурдизированы («не есть до шести, не любить по шести»), пародируя и передразнивая этот страдающий голос. Что парадоксальным образом не отменяет нежности, сочувствия, понимания.
Мотив насилия и принуждения подхвачен стихотворением «Мальчика сразу нашли и везут». Это пунктирный монтажный нарратив с выпавшими звеньями и открытым финалом:
всё устаканится двадцать спустя
История о судьбе ребёнка в воюющем мире рассказана разными голосами, хотя они никак графически не выделены. Их переключают и делают различимыми стилистические регистры: у «орать не моги», «устаканится» с «горнилом волны» вряд ли один и тот же носитель языка. Первая строка «Мальчика сразу нашли и везут» – коллективный голос. Свидетельствуя чужую трагедию, интонационно он воспроизводит обрывок разговора обычных людей. Фраза «сверху созвездия режут мазут» – такая же брутальная, экономная поэтика. Но голос принадлежит уже носителю метафорического мышления, равно как и «мальчик бросает в горнило волны / сломанный зонтик ночной тишины» (Иносказательно о ночном обстреле? Точно об утрате чувства безопасности). А вот автономные голоса в голове ребёнка, голос страха и голос инстинкта выживания, который ответственен за призыв к смирению: «Дальше терпи и орать не моги: маму и папу забрали враги». В финальном двустишии («Санкт-Мариуполь стоит на костях, / всё устаканится двадцать спустя») обнаруживает себя авторское сознание, рефлексия над сказанным. Итоговый-эпилоговый и оттого успокаивающий голос повествователя переносит высказывание в поле петербургского текста – инкорпорирует Мариуполь в петербургский культурный миф. А заодно вводит контекст притчи о царе Соломоне: «Всё устаканится двадцать спустя» прочитывается как парафраз надписи на перстне «И это пройдёт», упование на работу времени.
Семантический ореол метра – четырехстопного дактиля со смежной мужской рифмой работает здесь разнонаправленно. С одной стороны, ощутим жестковатый речитатив детских «садистских стишков», которые неслучайно также номинируются как «стихи про маленького мальчика» (по типу «Маленький мальчик нашёл пулемёт / Больше в деревне никто не живёт»). Они зачастую повествуют об опасностях, подстерегающих ребёнка и как раз призваны преодолеть детский страх. С другой стороны, в семантическом ореоле такого дактиля содержится память о лермонтовской балладе «Морская царевна»: «В море царевич купает коня; Слышит: «Царевич! взгляни на меня!». Это нарратив о гибели, о хтонической опасности, исходящей от воды. Но в тексте Ивана Волосюка происходит смысловая инверсия данного микросюжета: уже море глядит на мальчика со страхом, а не наоборот. В обоих случаях – и в садистских стишках, и в «Морской царевне» транслируется опыт боли и насилия, поддерживая катастрофический пафос высказывания Ивана Волосюка.
Сквозная идея этой подборки – космизм. Программное стихотворение, которое её открывает – «В синий ад бесконечного дня…» содержит мысль о единении со всем сущим. Преодоление своей обособленности мыслится как включённость в общее информационное поле, как способность быть проводником онтологических смыслов:
сердобольные белые стерхи.
Идеи русского мыслителя Николая Фёдорова о неуничтожимости жизни, вечном возвращении заключены в декларативную формулу «Всё кругом не твоё, не моё – / наше общее горе и благо. / Это время меня не убьёт. / Я вернусь. Свет вернётся в общагу». Слово, кодирующее всеединство, нарочито приземлено – «общага». Умышленное, но всегда неожиданное снижение пафоса – одна из черт поэтики Ивана Волосюка.
Натурфилософская лирика подборки восходит к Николаю Заболоцкому (стихотворение «Мы по кладбищу шли ни в едином глазу…») и, чуть менее очевидно – к Осипу Мандельштаму:
с огромным, как небо, сачком.
Мандельштамовский «Ламарк» видится одним из возможных претекстов, хотя здесь другие имена натуралистов – в первой строфе Линней, в строфе финальной Дарвин. Указание на возраст сохранено: мандельштамовскому «старику Ламарку» соответствует Дарвин-ребёнок. Эволюционная лестница, воспроизведённая в тексте Мандельштама, здесь разобрана: ряды живых существ у Ивана Волосюка (бабочка, змея, паук, птенцы и «маленький мальчик») иллюстрируют не спуск вниз – в первозданный хаос, а скорее движение вверх (к дневной звезде – солнцу), и параллельно прирастание в объёме, от плоскости бабочки (со сложенными крылышками-дверцами) до протяжённости змеи и моря. Моря, которое в каком-то измерении длится даже на плоском изображении: «И море, что где-то синеет, за кадром прижато к стене». Фигура Творца вынесена за скобки, в соответствии с дарвинской картиной мира: «Строитель потерян из вида, / и всё появилось само». Но «птичий базар», на котором находится говорящий, выглядит как эквивалент «общаги», то есть опять-таки речь о всеединстве.
Последняя прозаическая публикация в художественном разделе – «рассказ в рассказах» челябинского поэта и прозаика Яниса Грантса «А что ещё остаётся?». Автор самоустранился, предоставив микрофон восьми стендаперам. Каждый из них наделён индивидуальной речевой маской, обусловленной его предысторией и жизненным опытом. Вполне объяснимы сплошные киноштампы в сознании девушки-кассирши из «Магнита», симптомы распада личности в монологе Людмилы, теряющей память. Многоголосость позволила выстроить автономные фабулы, где сами событийные ряды сводят незнакомых друг с другом персонажей. Так, например, работает комедийно-водевильная сюжетная коллизия перепутанных двойников и ложной измены: «Выхожу из метро, смотрю: мой жених лижется с какой-то толстой коровой. Зашквар. Ну да, спиной ко мне стоял, и что? Нет, не ошиблась. Я его сто лет знаю. <...> Подошла да и хрястнула что есть силы сумочкой ему по башке».
Фраза из заглавия звучит в каждом монологе как объяснение нелогичности поступков, как оправдание непознаваемости бытия. В какой-то момент даже начинает казаться, что автор каталогизирует городских сумасшедших. Люди с определёнными ментальными проблемами (типичные «ненадёжные рассказчики») среди них точно есть. Причём, как и у Михаила Тяжева в «Пассажирке», актёрская профессия не способствует сохранению психического здоровья.
Несколько слов относительно южноуральской специфики. Сам нарратив о «городе Че» складывается исподволь, причём провинциальность не акцентируется. Индустриальная составляющая образа Челябинска тоже за кадром, хотя «снежные хлопья, похожие на черные маки» и «тонкое едва коричневое небо» по-своему красноречивы. Из маленьких штрихов, тайных примет создаётся альтернативная авторская версия городского мифа, где на проводах болтаются бездомные кеды, в подвале идёт дрэг-шоу строго «для своих», по улицам разгуливает умерший (и возможно, не один), а на перекрёстке Руставели-Гагарина лежит зловещий знак – нездешняя огромная бабочка.
Этот перекресток в стихах и прозе Яниса Грантса всегда предстаёт сакральным центром города, средоточием его иных измерений. Неслучайно ларьки городского рынка на Руставели-Гагарина – маркёр душевного состояния героев, в чём-то сродни гамлетовскому облаку. Антону, который находится в глубоком личном кризисе, они представляются гниющими тушами: «Только несколько павильонов держатся. Остальные будто киты, выбросившиеся на пляж Японского моря, – побитые, облезлые, мёртвые…». Для Зои, чьё подсознательное желание – избежать предстоящего замужества, торговые павильоны неявно ассоциируются со свободой, с возможностью побега: «Ларьки на рынке, как раскрашенные перевёрнутые лодки у Финского залива…». А есть ещё девушка Сарвар, рожденная в горах Памира, но уральская по духу. Она самая сложносочинённая героиня с особым внутренним миром. Ей снятся психоделические, отчасти пелевинские сны о брате, превратившемся в муравья. И в её монологе эти «тестовые» челябинские павильоны транслируют восприятие жизни как праздника и чуда: «Люблю наш рынок, составленный из сказочных коробочек для новогодних подарков».
«Челябинские мужики» Яниса Грантса (за исключением пятнадцатилетнего, очень идейного и ответственного Славика) не столько суровы, сколько инфантильны и безответственны. Отказ от своего ребёнка, в том числе ещё неродившегося, предательство семьи и сопутствующее чувство вины («Что я за сволочь») – сквозной сюжет «Рассказа в рассказах». Разъединенность отцов и детей, сожаление о некогда сделанных выборах отрефлексированы в исповедальных монологах героев. Кроме семейной тематики, прослеживается и актуальная «зелёная повестка» в несколько ироничной трактовке. В пылу борьбы за равноправие животных и людей экоактивисты ночью пытаются выпустить на волю коров местного агрохолдинга, а один из героев принципиально ходит в «Магнит» со своим дырявым чёрным пакетом. И всё же экологическая направленность «Рассказа в рассказах» не исчерпывается деятельностью экоактивистов. Даже интерференция мёртвых в мир живых решена у Яниса Грантса подчеркнуто экологично – ходит усопший в нарядном отглаженном пиджаке, аккуратно причёсанный, никого (кроме собак) не пугает, в чужие дела не вмешивается. Но шутки в сторону. Текст Яниса Грантса исследует способы экологичной коммуникации с собой и с миром – без обвинений и самообвинений, без усугубления травмы. Такова колыбельная, которую поёт Ксения своей уставшей и больной приёмной матери, даже злясь на неё.
Столь же терапевтична по воздействию реакция Славика на реплику младшего брата-инвалида, который мстит миру за свою болезнь: «Мои сидят на кухне и равнодушно пялятся в экран: лыжники соскальзывают с трамплина и неуклюже плюхаются неподалеку. «Это не птицы, это рептилии какие-то», – говорит младший. «Ты знаешь такое слово?» – спрашивает мать. «Там холодно?» – вместо ответа говорит он. «Где, на соревнованиях?» – не понимаю я. «В могиле», – говорит младший. «Прекрати настраивать себя на самое плохое. Все будет…» – заводится мать, но слезы перекрывают ей кислород. «Не бойся. Ты будешь одет как полярный летчик, укомплектован по полной программе. Я позабочусь об этом», – говорю я. «Спасибо», – улыбается брат. И мать улыбается. И я. А что еще остаётся?»
Подборка Яна Пробштейна «Отсрочка забвения» завершает раздел поэзии и прозы февральского номера. В первой её части преобладают философские элегии, где намечен образ мира, лишившегося благодати:
а кто – один люминесцентный свет.
Риторика и обвиняющий пафос прямого высказывания, его стихотворный метр соответствуют лермонтовской «Думе» («Печально я гляжу на наше поколенье…») «Путь кремнистый» тоже недвусмысленно указывает на лермонтовский код. Но в тексте Яна Пробштейна речь не о поколении, а скорее о современной европейской цивилизации, где утеряны сакральные смыслы. Впрочем, «мы» может подразумевать и человечество. В общую вину ставится многое: безверие, малодушие, неготовность умирать за свои идеалы. Ощущение нехватки воздуха создаётся развёртыванием словесного ряда «дух-дыхание-душа-душок».
В этой подборке игра однокоренными лексемами и паронимическая аттракция позволяют Пробштейну парадоксально сталкивать слова: «изумление музы на зуме / зов отзывчивых», «спевшиеся дуэты / кукушек и петухов, / спившиеся поэты, воспетые и отпетые». В стихотворении «До известного предела нет предела…» Пробштейн устраивает лобовые столкновения и очные ставки одним и тем же словам, встраивая их в разные контексты, демонстрируя, как Эзопов язык может обходиться самым минимумом средств:
то и тогда немногим есть до этого дело
Вторая часть подборки представляет собой поминальное слово: три стихотворения посвящены супруге («Из цикла «Памяти Наташи К.»). Первое, с его экзистенциальными, полными трагизма метафорами («мозолистого бытия излом», «изломанного бытия зазор», «времени закрытый перелом»), транслирует покинутость и одиночество лирического субъекта. Горевание отчуждает горюющего от мира. Идеи самоумаления и смирения сопровождаются констатацией бессмысленности жизни:
мы – лишь песчинки, только Божий сор
Третье стихотворение представляет собой хронику умирания, историю о сохранении достоинства и мужества перед лицом страшной болезни. Подготовка к смерти увидена как духовная работа, где «последнее озарение» и «последнее причащение» столь же значимы, как попытки встать снова и снова:
и тихо ушла во сне навсегда
Метафизическим средоточием этого триптиха является его середина, второе стихотворение:
я не умру в тебе, когда умру.
Коммуникация с ушедшей осуществляется соприсутствием в её посмертии, при этом происходит «примерка» мира, где нас (их) больше нет. То есть событие смерти осмысляется через чужую рецепцию. Отрефлексированная говорящим смена грамматических категорий позволяет совершить этот поворот, даёт нужную оптику – не извне, а снаружи. Не «мы», а он и она, избавленные смертью от внутренних инстанций, от личных представлений о себе, от всего временного и наносного («станем голы») стоят «пред миром на ветру». Эта лирическая ситуация перешла в цикл из поэмы Яна Пробштейна «Реквием», посвящённой умершему отцу («Ты будешь стоять – нет / не в сонмище страждущих душ – / до этого будешь стоять на миру / на вселенском ветру»). В подтексте читается Страшный суд, но и хайдеггеровское стояние в просвете бытия. Это свобода подлинного присутствия, выход на простор мира, на вселенский сквозняк. Однако последнее слово обращено не к миру, а друг к другу. «Чтоб выговориться в конце…» – экстремумная точка текста: с одной стороны, последнее слово осуждённых на смерть, с другой – посмертное обручение, где даются взаимные клятвы, обет вечной верности: «ты не умрёшь во мне / я не умру в тебе, когда умру».
Последнее стихотворение подборки «Проникновение» посвящено поэту Алексею Цветкову, умершему в 2022 году:
то хотя бы отсрочка забвения.
Здесь нет осмысления смерти как таковой, она даже не названа по имени. Наоборот, стихотворение целиком о жизни, по сути, репортаж «как мы тут без тебя». Информационный шум, дискретный мусор маркируют профанное пространство. Говорящий, отстраняясь от него, фиксирует, как сквозь житейский гул «вдруг долетит строка». «Строка» – поэтическое слово в статусе сакральной вести, вести оттуда. И эта долетевшая (как стрела или луч) строка свидетельствует силу её создавшего: плотное истинное проходит через многочисленные разреженные слои, перечисление которых заняло первые 12 строк. Заглавие «Проникновение», собственно, о всепроникающей-пронзающей природе поэтического слова, особенно если оно принадлежит недавно умершему, еще хранит его жар. Осмыслению здесь подлежит особая форма бессмертия – поэт не забыт, пока его строка хранится в памяти, пока она сохраняет способность тревожить живущих: «если не преодоление, / то хотя бы отсрочка забвения». Языковая цепочка с выпавшим средним звеном «отсрочка-строчка-строка» закрепляет неочевидную, но на наших глазах созданную связь между понятиями.
Рубрика «Новые переводы» представляет стихотворения выдающихся еврейских поэтов ХХ века в переводах Ольги Аникиной: Мойше Лейб-Галперн, Лейб Квитко, Рохл Корн, Мани Лейб, Ицик Мангер, Анна Марголин.
И шаги его не слышны.
(Рохл Корн)
В рубрике «Мир искусства» читателя ждёт статья Евгения Обухова ««Пианистка» и «Любовь» Михаэля Ханеке». Автор исследует обе кинокартины методами литературного, логического анализа, сравнивая первоисточник «Пианистки» с воплощением на экране. Роль музыки и социальный подтекст в обоих фильмах также оказались в центре внимания автора.
В рубрике «Опыты» размещено эссе Ивана Васильцова «Между родиной и судьбой. О трехтомнике «Стихотворений» Юрия Кублановского». Цитата: «Итак, три стихотворных книги, выстроенных по очевидному, кажется, хронологическому лекалу: горячая юность и бунтарская младость, взросление и цивилизационный холодок европейской культуры (пробегающий как бы поверх партитур родословных симфоний), возвращение – равное после ностальгии и пьянящему восторгу встречи, и разочарованию, и возрождению, и новому, рождающемуся на глазах и не вполне уяснившемуся-устоявшемуся, сердечному знанию…»
В рубрике «Публикации и сообщения» представлена статья пушкиниста Виктора Есипова «Беседа с Кольвилем Фрэнклендом (Пушкин о положении крестьян)». Английский офицер Кольвиль Фрэнкленд, путешествовавший в конце 1820-х годов по России, в своих дневниках описал три встречи с Пушкиным. Иностранца интересовало положение русского крестьянства, и согласно ответам Пушкина, «жизнь крепостного русского земледельца выглядит не в пример лучше жизни свободного крестьянина в Европе». Автор исследует возможные причины подобного рода ответов Пушкина. Как следует из статьи, взгляды Пушкина на крестьянский вопрос могли меняться в связи с приобретением статуса помещика, с эволюцией мировоззрения, наконец, с цензурными соображениями.
Другая статья из рубрики «Публикации и сообщения» – «Повесть о том, как один мужик двух кандидатов срезал («Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского и «Срезал» В. М. Шукшина)». Автор исследования, Павел Глушаков выявил особый тип героя, свойственный и прозе Достоевского, и прозе Шукшина.
Далее в рубрике «Литературоведение» читателя ждёт публикация Константина Фрумкина «Тема информационной емкости текста в истории русской литературной критики». Исследователь отмечает асимметрию читательского и писательского восприятия: «…в то время как автору важно высказать важную для него мысль, читатель часто видит в этом помеху занимательности и темпу, и на столкновении двух этих субъективных претензий к тексту трудно найти объективное мерило ценности высказываемой мысли».
Рубрика «Рецензии. Обзоры» позволяет узнать о книжных новинках. Евгения Риц рецензирует роман Сергея Соловьева «Улыбка Шакти». Владимир Губайловский размышляет о недавно опубликованных литературоведческих трудах – о книге Татьяны Красильниковой и Павла Успенского «Поэтический язык Пастернака: «Сестра моя – жизнь» сквозь призму идиоматики» и о книге Павла Успенского и Вероники Файнберг «К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка Мандельштама».
Рубрика «Сериалы с Ириной Светловой». На этот раз в фокусе внимания автора – четвёртый сезон сериала «Мир Дикого Запада». Цитата: «Элегантная кольцевая композиция, завершающая повествование в момент его начала, подводит к мысли, что дальнейшее гипотетическое существование разумной жизни находится за пределами нашего понимания. Сериал не будет иметь продолжения, оставляя нас с горьким убеждением в обреченности человеческой расы».
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети