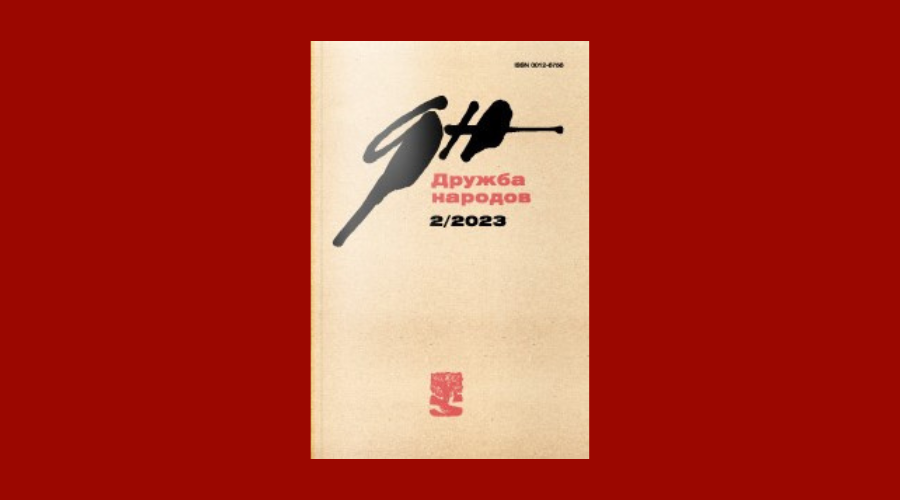«Дружба народов» № 2, 2023
«Дружба народов» — журнал современной литературы и культуры, объединяющий писателей России и зарубежья. Основан в марте 1939 года в Москве. Выходит ежемесячно. Тираж 2000 экз. Редакция уделяет внимание авторам из республик бывшего Советского Союза.
Сергей Надеев (главный редактор), Наталья Игрунова (1-й зам. главного редактора, зав. отделом критики), Александр Снегирёв (зам. главного редактора), Елена Жирнова (ответственный секретарь), Галина Климова (редактор отдела Поэзия), Владимир Медведев (редактор отдела Публицистика), Ирина Доронина (редактор отдела Нация и мир), Ольга Брейнингер (член редколлегии), Мария Ануфриева (член редколлегии), Иван Рудинский (главный бухгалтер). Редакционный совет: Сухбат Афлатуни, Муса Ахмадов, Ольга Балла, Дмитрий Бирман, Денис Гуцко, Иван Дзюба, Валентин Курбатов, Ольга Лебёдушкина, Фарид Нагим, Илья Одегов, Кнут Скуениекс, Сергей Филатов, Ринат Харис, Вячеслав Шаповалов, Эльчин.
Цена утопии
Главная тема номера журнала – цена утопии, утопии социалистической и фантастической, грезового королевства перестройки, ностальгической страны памяти и безумной ереси спятившего старика. Поэт Олеся Николаева в подборке «Жалость – сестра любви» повествует о том, к чему привели пертурбации прошедшего века, когда иллюзии рассеялись. Ирина Муравьёва в пародийно-романтическом тексте «Повесть о Белкине» показывает, что за веселыми, смешными и нравоучительными историями мелкого помещика, в причудливом сознании которого реальность обернулась чуть ли не сказкой 1001 ночи, могла стоять печальная и даже трагическая действительность (если допустить, что Белкин существовал). Владимир Тренин в новеллах представляет двух мечтателей, которые живут грезами о прекрасной спутнице жизни, но в реальности лучшие годы просто уходят. Герои Тамерлана Тадтаева и Андрея Волоса взбудоражены временем перемен, сулящим рай земной, но на поверку оборачивающимся нестабильностью, трагедией, смесью лжи и неудобной правды. Есть в перечне персонажей выпуска и два откровенно опасных для общества индивида, охваченных мечтой об индивидуальном счастье: это тронувшийся умом религиозный фанатик-дед из рассказа Игоря Корниенко и маньяк, держащий в подвале голубятни заложницу-рабыню, из новеллы Владимира Панкратова. К сожалению, приоткрывшийся мир веры не несет спасения и героине рассказа Алексея Иванова, которую вновь «засасывает» беспросветная действительность спивающегося человека.
Из публицистики в номере представлены фрагмент недавно вышедшей мемуарной книги талантливейшего графика Мюда Мечева, создавшего непревзойденные иллюстрации к древним сказаниям, «Васильки памяти» востоковеда Алексея Малашенко – остроумные энциклопедические заметки о юности, пришедшейся на хрущевско-брежневское время, воспоминания о детстве и родителях Аси Умаровой и Ганны Шевченко.
В рубрике «Жизнь в литературе» педагог Евгений Ямбург вспоминает о жизни и творчестве Марианны Гончаровой, а Евгений Абдуллаев в «Литературном барометре» сетует на молчаливо-декоративное присутствие современных поэтов в литературной жизни.
В качестве наиболее интересных вещей выпуска можно выделить поэтическую подборку Ольги Александровны (Олеси) Николаевой, сочетающую красоту поэтики с пронзительностью обращения к читателю-современнику, и произведение пограничного жанра Ирины Муравьёвой – «Повесть о Белкине». Несмотря на избранный пародийный ключ, перед нами гораздо более глубокая и художественно яркая вещь, нежели просто плод остроумной вторичности. Злоключения главного героя, добросердечного недоросля, взявшего что-то от Петруши Гринева, Обломова, гоголевского незадачливого бурсака Хомы Брута и даже тургеневского Лаврецкого, быстро превращают читателя в сочувственного советчика. Любовная связь с крестьянкой, которая стала жертвой барской причуды, бегство от ее мужа в порочную столицу, короткое знакомство с кутилой и одновременно богатым наследником, роковая влюбленность в загадочную сексуально-ненасытную дворянку, наконец, скоропалительная дуэль, окончившаяся самым неожиданным образом, и нелепый конец, когда, казалось бы, жизнь только начала налаживаться! Столь стремительный и замысловатый сюжет личной биографии помещика становится достоянием тех самых записок, на основании которых классиком якобы и были написаны легендарные повести. Эта игра в классическую русскую литературу неожиданно оборачивается чем-то большим, нежели просто развлекательное чтение или упражнение в остроумии.
Номер открывается подборкой известного поэта, профессора Литинститута Олеси (Ольги Александровны) Николаевой. Название «Жалость – сестра любви» сразу вызывает ассоциацию с пастернаковским «Сестра моя – жизнь», однако по содержанию стихи перекликаются с другим классиком, как ни странно, это недавно ушедшая вологодская поэтесса Ольга Фокина. Морализирующее зерно большей части включенных стихотворений приводит к дрейфу образа пифии, пророчицы – в сторону фигуры вероучителя. Если поздняя Фокина была нравоучителем в буквальном смысле, и это неоднозначно было встречено аудиторией, то у Николаевой все тоньше и филигранней. Однако смысл послания – воззвание к безбожникам, к тем, чья душа восхотела воли, обличение сквернословов – при всем библейском пафосе и мастерстве – сродни крику ее предшественницы. В фокусе – попрание заветов предков, нарушение хода истории, недостойные деяние властителей прошлого. С другой стороны, эстетическая функция, как говорят сегодня, сохранена у поэта наравне со смысловой. Стиль Олеси Николаевой для нас так же узнаваем и сопряжен с чудом индивидуального поэтического языка, как манера Ольги Седаковой, Кати Капович, Елены Шварц и Татьяны Бек.
жуков и мотыльков, и звездную пыльцу.
Новый роман Андрея Волоса, известность которому принес бестселлер «Хуррамабад» (2000), назван «Облака перемен» – видимо, в связи с тем, что упоминаемые в тексте события частью происходили в околоперестроечное время. Перед нами две с половиной новеллы – с продолжением в следующем номере. Всего месяц интеллигентная Лена пробыла супругой скоробогатого Шуры, пожила в элитных апартаментах на Пречистенке, покатала малолетнюю дочку в шиншилловой полости, помечтала о небе в алмазах. А потом муж погиб – и оказалось, что и за лакшери-сегмент не заплачено, и за гробом полтора человека вместо свиты, и вообще всё как-то… Совсем другого рода были мечты у пожилого кинематографиста, который, напротив, материально поднялся, но красивой биографии не нажил. С помощью жениха дочери, беллетриста, он пытается написать достойные мемуары по следам своей крайне запутанной долгой жизни, увы, вплетая туда для красоты вранье, чужие истории и откровенные выдумки. Что ж, у всех свои слабости. У озлобленного на жизнь старшеклассника проблемы с училкой по химии Алевтиной Петровной – он ей что-то не так сказал. Впрочем, и с другими учителями у него отношения не сильно лучше, а ЕГЭ уже на носу. Внешне он практически взрослый парень, его и дружба с девочками интересует, и философские проблемы, однако вместо того, чтобы вернуться к реальности и оставить стиль жизни «с понедельника возьмусь», он все больше запутывается. Иронический, проницательный взгляд на бытие Андрея Волоса вызывает двойственное чувство. Конечно, и Михаил Булгаков, и Эрих Мария Ремарк позволяли себе некоторый цинизм в отношении жизни окололитературного сословия, трагикомически обыгрывали сцены похорон и подшучивали над слиянием капитала и псевдоинтеллигентности. Однако со стороны Волоса мы не наблюдаем хоть какой-то сердечной симпатии к своим персонажам, пусть даже его повествование занимательно и исторически назидательно.
Пародийно-эротическая фантазия «Повесть о Белкине», принадлежащая перу американской русскоязычной писательницы Ирины Муравьёвой, несмотря на блестящее исполнение и крайнюю увлекательность, все же принадлежит к тому окололитературному жанру, куда причисляются фанфики, многочисленные продолжения «Евгения Онегина», «Войны и Мира» и другие несамостоятельные произведения на базе классики. Хотя в ней, безусловно, есть больше, нежели хитросплетение гоголевских, пушкинских, тургеневских и гончаровских сюжетов, трагикомическая подоплека и намерение развлечь читателя, но вопрос о возможности существования таких книг в самостоятельном качестве всегда будет подниматься. В интерпретации Муравьевой легендарный Белкин более всего напоминает смесь из Обломова и юного героя «Обыкновенной истории». Провинциальный недоросль, набедокуривший в маменькином поместье, подался чиновничать в столицу. А там настоящий Вавилон, спиртное, блудницы и карты, а также роковая любовь к сексуально ненасытной княгине Ахмаковой, в итоге приведшие простодушного и чувствительного Ивана Петровича к преждевременной кончине от апоплексического удара в самом расцвете. Богатый язык повести, колористические образы персонажей, хорошее знание менталитета и отечественной словесности говорят в пользу этого своеобразного произведения, конечно, готового в будущем встретить как поклонников, так и противников жанра.
Рассказы геолога Владимира Тренина «Вне времени» посвящены романтическо-эротическим фантазиям двух героев – старика-писателя и командированного со странной специальностью наподобие проектировщика сотовых вышек. Пытаясь закончить повесть своей жизни и беспрестанно выпивая в египетском отеле, господин Узо (прозвище происходит от вида водки) грезит меж сном и явью образом своей давней возлюбленной, обаятельной красавицы, верившей в его писательский дар и до сих пор посещающий его в пикантных видениях. Персонаж помоложе имеет сходную участь: в реальной жизни до сих пор не обзаведшись подругой, в параллельном мире грез, сойдя с поезда на случайной станции, он встречает неотразимую девушку свободных взглядов, и его система морально-нравственных установок дает сбой. Легко и приятно читающиеся, написанные ровно и увлекательно с точки зрения стиля, такие новеллы скорее типичны для жанра любовно-романтического рассказа, выросшего из восточной прозы Бунина. Важно добавить, что это произведения художественные, с колоритом местности и определенной философией, что, безусловно, отделяет их от жанра сугубо эротической прозы.
Философская лирика поэта и литературного критика Евгения Коновалова (подборка «В парке на площади мира») наполнена рефлексией о печальной судьбе человека в большой истории, его экзистенциальных поисках, неизбежно оканчивающихся вместе с жизнью. Эстетический пессимизм, даже фатализм подобного мировидения свойствен холодному уму, утратившему иллюзии: вследствие железнодорожной катастрофы от пассажира осталась только треть, и именно на ней сохранился укрепленный мобильник, разрывающийся от марша тореадора, как символ абсурда бытия. Противопоставить небытию возможно только полноту красоты недолгого и от этого еще более жадно вбираемого богатства существования, чтобы чаши весов хотя бы условно уравновесились.
Рассказывает случаи из жизни.
Занимательные рассказы южноосетинского писателя и сценариста Тамерлана Тадтаева хочется отнести к прозе о красивой жизни – жанру, основанному Труменом Капоте. Видимо, хронологически они затрагивают позднесоветскую эпоху и перестройку. В них присутствуют все атрибуты внезапного счастья: красивые девушки, являющиеся дочерями партийного начальства или будущими известными художницами, но при этом готовые пофлиртовать с простым остроумным парнем; внезапные друзья и покровители, способные дать денег на съемку короткометражки или пригласить пожить за рубеж; пляжи с групповым сексом и прекрасными возможностями для купания… Мир теряет сословную иерархию, деньги появляются и исчезают, друзья статусно взлетают и падают, всё это приправлено криминалом, приключениями, бурной фантазией и некоторым туманом, возникшим от шмали, потребляемой героями. Читать такую прозу интересно, она остросюжетна, динамична, порой смешит, порой возмущает, наверное, основная претензия может быть обращена к ее философскому или нравственному зерну. Мемуары могут повествовать о том, как хорошо было когда-то, криминальный роман – увлекать читателя хоррором и перипетиями. Такие же рассказы-фантазии (несмотря на то, что написаны они талантливо, с национальным колоритом и живыми героями) представляются чередой сценок, не несущих «дополнительной нагрузки», а значит, тяготеющих к беллетристике.
Реалистическая повесть Лады Щербаковой «Тётя Лошадь» посвящена старой как мир истории, от этого не становящейся менее печальной. У Сони и так сложности в семейной жизни, а тут еще старый вдовый отец, серьезно болеющий, надумал вдруг сочетать свою жизнь с приезжей хохлушкой в два раза крупнее его и на 17 лет моложе. Хотя квартира отца уже оформлена на Соню после смерти матери, сама ситуация видится дочери кощунством по отношению к ее памяти. Понимая, что немного ему осталось, отец пытается получить от жизни последние радости в виде новой семьи, поездок на велике, застолий, в то время как дочь хочет всеми силами продлить его земной срок с помощью охранительной, щадящей тактики. Никто, кажется, не хочет видеть ее внутренней трагедии – чужой человек в отцовском доме, невозможность поддерживать отца по собственной методике, а главное, даже собственный супруг ее не понимает и говорит – дай уже отцу самому решать. После одного из разносольных застолий, отцу, что закономерно, становится хуже, достать лекарства проблематично – и финал предрешен. Вопрос свободы выбора раньше касался в большей степени взрослых детей, теперь же нередко – престарелых родителей. Формула «бери от жизни всё» заиграла новыми парадоксальными огнями, и вот уже пенсионеры, у которых в жизни было мало хорошего, на глазах у глубоко шокированных детей пытаются наверстать упущенную любовь, тепло, досуг, – всё то, чего они, как ответственные серьезные люди, никогда не могли себе позволить. К сожалению, в силу частой эксплуатации этого сюжета в кино и в беллетристике, избежать обвинений в банальности сложно. Для живущих трагедия каждый раз нова, но в искусстве литературы другие правила игры. В остальных же отношениях рассказ выигрышен: кинематографичен, с колоритным образом приезжей Тёти Лошади – Люси, с актуальными психологическими вопросами.
Странный рассказ-ужастик Игоря Корниенко «Волшебная кнопка» напоминает по сюжету пионерлагерные страшилки и т.н. страшные сказки. Выживший из ума дед-упырь хоронит вместе с собой заживо и маленького отпрыска своего – внука – в двудонном гробу, с отделением для второго «пассажира», дабы после смерти воссоединиться с ним в духе для новой реальности. Некоторое сходство с повестями Сергея Клычкова, тоже основанными на старообрядческих легендах, в которых, как известно, особое место занимала домовина и путь покойника, развеивает недоумение по поводу нестандартного похоронного обряда. Современная медицина уже знает, что душевное расстройство почти всегда вещь наследственная, но чтобы она присутствовала у почти всех членов семьи, бывает реже. Здесь же ситуация примерно такова, и если сначала рассказ представляется данью абсурдистской традиции, пародией и символическим синтезом, то к финалу мы уже вспоминаем Пелевина и все его эзотерические фантастические манипуляции с саркофагом из мавзолея и передвижениями душ – в жанре страшного рассказа и он преуспел немало. Гоголевская история про «растущего в земле мертвеца» принимает новые и новые формы, как-то она трансформируется в очередной раз?
Новелла Владимира Панкратова «Лёша Козихин» посвящена писательскому кружку. Скорее, кружку тайнопишущих людей различных профессий, которые собираются и обсуждают тексты друг друга. Главный герой, программист Лёша, спит с красивой девушкой Лерой, жизнь его комфортна, но скучна, и он начинает придумывать истории про встречных прохожих. Сложно сказать, есть ли у него литературный талант, потому что он уже пробовал себя в лыжном спорте и музыке, а раньше водил состав метро. Примерно такая же ситуация и с его подругой, и с остальными членами клуба. Собрания-чаепития имеют в себе зернышко абсурда. Скорее всего, это философский текст об особенностях писательского труда, о мировидении, которое должно быть свойственно пишущему человеку, и еще – о неизвестности. Решение вести «творческую жизнь» сопряжено с неизбежным риском: ведь во многих случаях люди годами пребывают в неведении, если ли у них настоящий талант и не тратят ли они свою жизнь впустую?
Религиозный рассказ Алексея Иванова «Иисусова молитва, или Старая бомжиха с рыжим котом на поводке…» производит впечатление силой вложенного чувства и реалистичностью описанной сцены исповеди. После потери любимого, наркомана Мишеньки, Вера спилась и опустилась, слово пожилого священника возвращает ее в реальность. В ней, отчаявшейся, происходит «переворот», но, увы, одного сильного импульса недостаточно, чтобы удержаться. На уровне небольшого, обладающего признаками незавершенности текста можно судить лишь о мастерстве стилиста и только догадываться о сюжетных достоинствах истории, перерасти она в роман.
Небольшая подборка Ирины Колесниковой «Свидетельство о рождении» – философская лирика о превратностях судьбы. Почти безэмоциональная, она констатирует фрагменты бытия. Также можно воспринять цепочку стихов как аллегорию жизни: радость наступления нового года в детстве, предчувствия юности, случайные переживания, незаметно пробежавшая меж родителями кошка, развод.
и дырявые облака
Невозможно без слез читать воспоминания прекрасного графика-иллюстратора исторических сказаний Мюда Мечева о большом терроре («Детство в Пуговичном переулке»). Сюжет подобных мемуаров уже стал тривиальным. Сначала выясняется, что какой-то обыкновенный гражданин на самом деле был «врагом народа» и вел непонятную по своему составу «тайную вражескую деятельность». Его забирают, члены семьи лишаются работы, а его детей в лучшем случае избивают и унижают окружающие, а в худшем – они не могут найти средств к существованию. Казалось бы, «враги» получили по заслугам и справедливость восторжествовала, но вдруг выясняется, что и в составе самих «благородных мстителей» обнаружен очередной «враг». С его семьей все повторяется по тому же сценарию; это продолжается снова и снова, пока окружающие не ощутят абсурда и окончательно не запутаются, кто же «главный враг». В случае автора есть «реальная причина» для преследований – при обыске у его отца-живописца находят семейные реликвии в виде дедовского одиночного эполета и трофейного револьвера. Эти роковые семейные святыни становятся основанием для высшей меры. В мемуаре поражает не столько сам механизм, давно уже описанный в массе исторической литературы, сколько то, какими выведены современники графика. В большинстве своем это люди, давно утратившие всякие представления о достойном. Не страх, материальный мотив или идейность движут ими, а любовь к злу и удовольствие от уничтожения случайного ближнего, который в их запутавшемся разуме каким-то фантастическим образом вдруг становится олицетворением всех тех бед, которые постигали их в жизни. Хочется верить, что не все последователи социалистических идеалов обладали подобной начинкой даже в эпоху тоталитаризма.
Напротив, замечательные, веселые, даже местами политически озорные воспоминания недавно скончавшегося востоковеда Алексея Малашенко «Васильки памяти» воссоздают совсем иную картину советского мира – правда, уже в хрущевско-брежневское время. Это отчасти энциклопедия жизни 70-х: какие праздники отмечали и как, что носили и куда ездили, как относились к малым народам, какие песни пели, сколько было истинных коммунистов среди коммунистов и насколько пионеры и комсомольцы серьезно относились к проекту «СССР». Автор предстает человеком очень адекватным, одаренным незаурядным умом и чувством юмора, он лишен иллюзий, но не чувств, и отделяет ностальгию по молодости от ностальгии по советизму, в то же время способен найти хорошее в разных культурах и признать недостатки.
«Самый поздний портрет Ленина мне попался в 2022 году на конфетной обертке. Конфета, которой угостила меня жена Наташа, называлась «Ильич». В столице стояли ленинские памятники, но они выглядели невзрачными и торчали то возле заводов, то у дверей научно-исследовательских институтов. В девяностые в чистеньком дворе на Красной Пресне я наткнулся на очень грязный бюст Ленина с отломанным носом. Вождя стало жалко».
Лирический мемуар чеченской художницы Аси Умаровой «Полка с чувствами» рассказывает о смелом человеке с огромным сердцем – ее отце. Он был простым зоотехником, но мужественно вел себя в бомбежку в период чеченской войны. А собственную мать любил столь горячо, что повез ее в трудные времена на историческую родину и нес на себе в места, где прошла ее юность, потому что пожилая женщина верила: если увидит родное село, то болезни отступят.
Педагог и писатель Ганна Шевченко в эссе «Игра в слова» вспоминает о своем сельском детстве на природе, счастье молодых родителей, военной судьбе дедушки и бабушки. Печаль от того, что мир меняется и становится более искусственным, даже счастье в нем виртуальное и супермаркетное, соединяется с пониманием, что невозможно вернуть те далекие времена и тот прекрасный уголок земли, – после военного конфликта не узнать былого края.
В проникновенном очерке «Горевание», посвященном памяти ушедшей писательницы Марианны Гончаровой, Евгений Ямбург вспоминает о своем первом знакомстве с ее творчеством и о впечатлении, которое произвела на него, человека уже немолодого и с большим педагогическим опытом, ее книга.
Евгений Абдуллаев в полемической статье «Снова обидно за поэзию» печалится и рассуждает о том, что «серьезные поэты» читают самих себя друг другу, грамотного литературного менеджмента у нас нет, издательства тоже не очень заинтересованы в распространении поэтических книг, а на конференциях стихотворцы по большей части играют роль молчаливой декорации. И такая ситуация всех устраивает. Существует ли оптимальное решение проблемы по соединению автора и читателя?
Борис Минаев в материале «Банный день» рассказывает о необычном «голом» спектакле «Ревизор», поставленном на сцене «Студии драматического искусства», и о документальном фильме Елены Якович, посвященном мастерской Петра Фоменко.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети