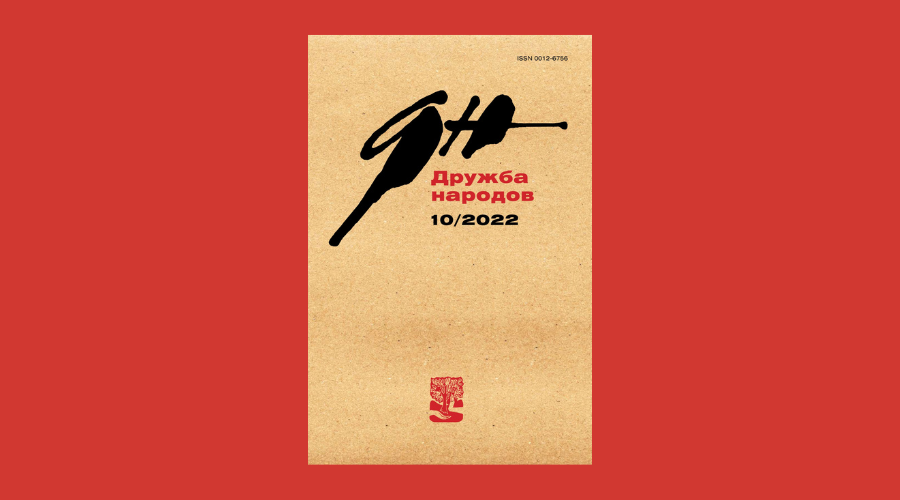«Дружба народов» № 10, 2022
«Дружба народов» — журнал современной литературы и культуры, объединяющий писателей России и зарубежья. Основан в марте 1939 года в Москве. Выходит ежемесячно. Тираж 2000 экз. Редакция уделяет внимание авторам из республик бывшего Советского Союза.
Сергей Надеев (главный редактор), Наталья Игрунова (1-й зам. главного редактора, зав. отделом критики), Александр Снегирёв (зам. главного редактора), Елена Жирнова (ответственный секретарь), Галина Климова (редактор отдела Поэзия), Владимир Медведев (редактор отдела Публицистика), Ирина Доронина (редактор отдела Нация и мир), Ольга Брейнингер (член редколлегии), Мария Ануфриева (член редколлегии), Иван Рудинский (главный бухгалтер). Редакционный совет: Сухбат Афлатуни, Муса Ахмадов, Ольга Балла, Дмитрий Бирман, Денис Гуцко, Иван Дзюба, Валентин Курбатов, Ольга Лебёдушкина, Фарид Нагим, Илья Одегов, Кнут Скуениекс, Сергей Филатов, Ринат Харис, Вячеслав Шаповалов, Эльчин.
Воссоздам, что потеряно
У октябрьской «Дружбы народов» за 2022 год, при всей видимой разнородности составивших её материалов, есть, кажется, общее тематическое русло. Сквозную их тему можно сформулировать как усилие понять жизнь, – если и не разгадать её тайну (что, разумеется, невозможно: «главное», как говорит один из поэтов этого номера, Заир Асим, «выскальзывает из высказывания»), то хотя бы так или иначе к этой тайне прикоснуться, стать к ней ближе. Поэты чаще всего ищут решения этой задачи в основном на путях возвращения к истокам жизни, к детству; прозаики выбирают пути более неожиданные.
С разговора с жизнью, с послания ей номер и начинается. Поэтическая подборка Владимира Гандельсмана, почти по-пастернаковски названная «Сестре моей жизни», – это прямое обращение к ней, письмо ей вызываемой здесь из небытия, – всей, с самого начала:
Кто сказал «аз воздам»?
Поэт смотрит в прошлое («Да и смотрю я в сторону дома, вспять, / восполняя сторицей разность / между живым и убитым»), и детские воспоминания возвращают ему заворожённость чудом существования:
как жизни богоявленной притвор.
На всю свою жизнь, с детства, в подборке под общим заглавием «Оседлаешь коника и продолжишь путь» оглядывается и Дмитрий Артис. За исключением единственного стихотворения, о том, как сын лирического героя воображает себе мифических для него советских людей, это – и ритмически, и образно – почти фольклор (что хочется назвать усилием преодоления биографии). То «я», от лица которого идёт речь почти во всех этих текстах, вопреки своей как будто несомненной иногда биографичности («Безотцовщина, много ли проку с меня, / Если выживу, буду порочен. / Только я на беду был живее огня. / Не закрыл свои карие очи»), – фольклорное, надбиографическое, всеобщее.
и-сти-ну.
В отношении жизни как таковой – скорее, человека в ней – Артис настроен, по большому счёту, оптимистично: «Жить захочешь, / выживешь, прорастёшь травой / на полянке выжженной миром и войной. / Даже если обухом перебить хребет, / вытянешься облаком и пойдёшь на свет».
Противоположную позицию представляет Евгений Дьяконов (подборка «Забыв земные спецэффекты»): полагающий, что «…жизнь воняет тошнотой, / не важно – Сартра ли, не Сартра, / не важно – с этой или с той», он в целом вполне безутешен, хотя лирический его герой и старается себя уговорить: «…Всё, что тут, / и всё, что там, прими за данность / и проложи себе маршрут / из снегопада в благодарность».
Стихи казахстанского поэта Заира Асима («Головокружительный воздух») тоже завораживают, утешают, тревожат детство («Не даёт покоя эта старая восточная песня, / которую родители танцевали в квартире, / когда мы были детьми, в доме, которого нет»), родство («У папы дедушкин смех. У меня папин») и вообще прошлое («Я был, я жил, вставал, шёл, слушал дождь, любовался чувством, смеялся с друзьями, / молчал на кладбище с братьями, как перестать говорить прошлым, когда сам язык / мёртв, как мясо, наполнен воспоминаниями слов, вторичен, отрицает целое, ссылается /на другое»).
А Сергей Уткин («Как остаться запятой»), тоже вздыхающий по прошлому («Ох, как я умел кино! / И книги умел, и час их. / Теперь я совсем иной, / Хотя и умею счастье»), настаивающий на своей тяге к нему («И никогда не нужно отучать / Меня ходить вослед ушедшим летам»), печалящийся об утраченном («Вот тебя со мной не повторяется / Ни за что, ни про что. Никогда»), полагает, что жизнь сама обращается к человеку и предъявляет к нему некоторые – впрочем, вполне выполнимые – требования: «Только жизнь вопрошает: «Кто же ты?» / И желает, чтоб стал ясней».
Первый прозаический текст номера – таинственная, названная «утопической» повесть Дениса Гуцко и Дарьи Зверевой. Вообще-то она (почти) по всем приметам жёстко-реалистическая, имеющая в себе даже некоторые черты детектива – (не считая разве того, что необъяснимое и потустороннее в неё время от времени всё-таки заглядывает, и некоторые тайны в ней так и останутся нераскрытыми, а детективное расследование до конца не доберётся) о радикальной биографической и личностной метаморфозе ушедшего в отставку военного, участника чеченской кампании. О том, как вышло, что «Герой России» по доброй воле стал завхозом в психоневрологическом интернате (небольшой спойлер: вышло это лишь частью волею судеб, а в основном осознанным решением. Что-то в этом есть от самопожертвования… да, пожалуй, утопичность именно в этом: с героем по собственной его доброй воле произошло невозможное). Повесть не столько заканчивается, сколько обрывается на том, как герой в этом интернате рассказывает свою жизнь подростку-аутисту, спасённому им от ложного обвинения. Возможно, именно благодаря этому он чувствует свою жизнь оправданной.
Некоторые прозаики номера рассматривают жизнь в условиях разной степени её невозможности – вплоть до почти абсолютной, как в рассказе узбекистанского русского прозаика Алексея Устименко «Луковый Мулен Руж» – о жизни в условиях её совершенной, казалось бы, невозможности: об Анастасии Цветаевой на «вечном поселении» в Сибири («Обретённая собственность радовала и удручала. / Привязывая к внешнему миру как бы окончательно – ведь «на вечное же поселение!» (чего ещё никак не понималось) – собственность отнимала мир привычно вольный, внутренний. Для человеческого выживания вдруг оказавшийся совершенно не нужным»). Невозможность чуть более выносимая представлена в одном из рассказов Виталия Орлова, «Свете тихий»: любимая девушка героя сбивает автомобилем его мать, бросает её умирать на дороге и скрывается. (В другом рассказе Орлова, «Государыня Евдокия», напротив, жизнь – в облике счастливой любви – торжествует стремительно и там, где уж совсем никто этого не ожидал, включая главных героев – ставших родоначальниками династии Романовых. Примерно то же самое происходит – посреди совершенно, до полной безнадёжности, казалось бы, катастрофической ситуации – с героиней рассказа Жени Декиной «Пааа-любому». К числу наиболее жизнеутверждающих текстов номера несомненно стоит причислить и оба рассказа Виктории Цой. Оба – о материнстве, разве что с (казалось бы, радикально) разных ракурсов (на самом деле близких друг другу чуть не до совпадения). Первый из них, «Семь дней», – о том, как героиня, застигнутая беременностью вполне врасплох, внутренне осваивает предстоящее материнство (можно сказать, что и дорастает до него). Во втором, «Мама. Версия 1.0», выясняются некоторые особенности материнства в цифровом посмертии.
До совсем уж полной безнадёжности доводит своих героев и человечество в целом пишущий по-русски армянский прозаик Ованес Азнаурян: всего-то «За сто тысяч лет до взрыва Бетельгейзе» (звезда, которая своим превращением в сверхновую обещала положить конец жизни на Земле в марте-апреле 2022-го, да нежданно передумала), показывает он, уже к 2029 году некоторая Большая война и как минимум две пандемии (та, что мы пережили недавно, была лишь Первой; а затем вообще грянула «глобальная катастрофа», по имени не названная) совместными усилиями почти снесли с лица земли человеческую цивилизацию – настолько, что утраченную общецивилизационную память приходится восстанавливать в рамках специальной программы «Return of memory». «Убийства, беззакония и бесчинства утвердились по всему миру, и правительства стран добровольно сложили с себя полномочия. Исчезли государства, стёрлись границы, и теперь функцию единого на всей Земле координатора с помощью миротворческих военных сил выполняла ООН, к которой присоединили на всякий случай ВОЗ. С тех пор и стало принято не называть в отчётах страны, а лишь упоминать географические названия регионов». Сломался человек как вид: «…стоило Всемирной сети исчезнуть, как наступил полный коллапс мозга (книг-то никто не читал уже давно)», сломался сам климат – например, в Араратской долине (откуда повествователь наблюдает всё происходящее) годами идёт дождь, делая осмысленное существование ещё более невозможным. Каким образом жизни даже в этой ситуации удаётся остаться самой собой, мы и узнаем из рассказа.
Нехудожественную словесность этого номера – критику и публицистику – всё-таки невозможно без насилия над естеством втиснуть в то, что мы назвали общим его тематическим руслом, потому мы и не будем этого делать. Впрочем, некоторые тенденции улавливания ускользающей (от окончательных определений) жизни прослеживаются и здесь. Поэт, эссеист, критик Алексей Алёхин, например, публикующий в рубрике «Жизнь в литературе» фрагменты своей «толстенной рукописи» под рабочим названием «Другая тетрадь», которую он ведёт с 1968 года, со множества разных сторон пытается приблизиться к пониманию того, как устроено его «Проклятое ремесло». Литература (и окололитературные практики), конечно, что ж ещё-то. Впрочем, и то и другое, судя по всему, автор рассматривает как не просто разновидность жизни, но как одну из самых витальных, полнокровных – живых её разновидностей. «Критики пьют живую кровь. Литературоведы питаются падалью». Продолжение следует.
«Публицистика» представлена «Двумя письмами на одну тему», которыми писатель Геннадий Прашкевич обменивается с физиком и философом Алексеем Буровым. Объединённые названием «О здоровых и прокажённых», эти письма имеют в виду здоровье куда скорее социальное, ценностное, этическое. «Почему, почему всё, что мы делаем, даже поиск истинной правды, – восклицает Прашкевич, – приводит нас к греху? И почему, почему так редко то, что мы делаем, подталкивает нас к осознанию своего греха, своей вины?». Восклицает риторически – не находя ответа и, кажется, не очень надеясь его найти. Жизнь ускользает и в этом отношении тоже. Буров, впрочем, некоторый ответ всё-таки предлагает; по его версии, дело в том, что «Бог стал умирать в сознании людей», причём давно, «задолго до того, как они массово начали выражать неверие в его существование. Эта «смерть» случилась тогда, когда мы сняли с себя ответственность перед Всевышним за наши дела». «Мне известен лишь один аргумент, – говорит он далее, – по которому надо следовать совести, несмотря ни на что: её голос божествен. Конечно, такой аргумент предполагает веру в Бога, не только Создателя, но и Вечного Судию. Без такой веры совесть – непонятно что, и её тихие требования самоограничения и самопожертвования могут быть приняты лишь благороднейшими натурами, каковых немного».
Как тоже своего рода ответ на этот неотвечаемый вопрос может быть прочитано окончание (начало – в предыдущем, сентябрьском номере) документальной повести учёного-педагога, писателя, историка Анатолия Цирульникова «Алдан. Несцепленные шестерёнки, или Золото заката», помещённое в рубрике «Нация и мир». Она (как многолетние исследования Цирульникова вообще) посвящена способам формирования человека – региональным педагогическим практикам в якутском городе Алдан и его окрестностях, куда автор предпринял одну из своих педагогических экспедиций. (Основная идея автора, высказанная не только в этой повести, но, кажется, вообще во всём, что он написал и пишет, – в том, что человека надо создавать: внимательными, продуманными, систематическими усилиями, чуткими притом к его естеству и к специфике условий, в которых формируемому человеку предстоит жить. Удивительным образом, в якутской глуши многое получается.
В рубрике «Библиотечная серия» – рассказ (точнее, подборка миниатюр, – текст, насколько можно понять, продолжающийся) поэта Ганны Шевченко из цикла «Читальный зал», о московской Чеховской библиотеке и салоне «Классики XXI века» при ней, где автор работает уже три года, о «сложных», проблемных, странных и именно этим интересных посетителях, которые туда приходят.
На «Книжном развале» читатель найдёт три рецензии: автор этих строк размышляет над (виртуозно обманывающим типовые читательские ожидания) романом Лены Элтанг «Радин», Валерия Пустовая анализирует роман Александра Бушковского «Ясновидец Пятаков» («Герои Бушковского живут интенсивно: дерутся и служат, рыбачат и охотятся, строят дома и семьи, заводят машины и собак. И всё же они будто одной ногой не здесь – а в пространстве испытания смысла») и, наконец, литературовед и критик Николай Александров пишет о том, чем может быть интересен сегодняшнему читателю Неол Рудин – забытый (скорее, незамеченный: после 1923 года его перестали печатать вообще, хотя он дожил до середины 1950-х) поэт первой половины XX века. Рудина вызывает из забвения недавно изданный «Водолеем» «огромный, семисотстраничный» том «Гул Москвы», вобравший в себя, по существу, полный корпус его текстов. Рудин, показывает автор, остался человеком 1910-х–1920-х годов, испытал характернейшие влияния этого времени, «собрал огромную и уникальную» библиотеку о нём, – а всего последующего не заметил – как, скажем, Заболоцкого – или не понял, как, например, Пастернака.
Далее следуют две авторские рубрики: поэта, прозаика и критика Евгения Абдуллаева – «Литературный барометр» (в которой он, как всегда, отслеживает «изменение литературной атмосферы, движение больших словесно-воздушных масс») и прозаика Бориса Минаева – «Правила игры». Эссе Абдуллаева «Дивный новый канон», продолжение очерка с тем же названием, опубликованного в той же «Дружбе народов» в 2020-м, о «массовом монументоборчестве, охватившем западный мир», – на сей раз о том, как и почему многострадальную «русскую классику снова сбрасывают с корабля современности. Только на этот раз не как что-то устаревшее. А как нечто более чем живое – и имеющее прямое отношение к тому, что началось 24 февраля» (и в чём русскую классику, разумеется, от души и обвиняют, изыскивая в ней «корни насилия»). Автор видит в этом не просто попытки разрушения канона культурного вообще и литературного в частности, но сопротивление самой идее канона вообще; с другой стороны, усматривает в нынешнем «каноноборчестве», скорее, ещё одно следствие актуальности русской классики. Минаев вслушивается в то, что нынче «Говорит молчаливое большинство» устами Театра.doc, в частности, усилиями писателя, драматурга, а теперь и режиссёра Дмитрия Данилова. Вот уж – не попытка даже, а систематическое усилие ухватить и понять жизнь «как она есть», сырой (якобы), помимо (как будто) вымысла и с минимумом литературной обработки (на самом деле нет). Так что в предположенное нами тематическое русло ныне обозреваемого номера это всё-таки укладывается.
Что же до тайны жизни, то наиболее близко подойти к ней, даже погрузиться в неё, чуть ли не заговорить его языком – разумеется, ни в коей мере её не разгадав! – из всех текстов номера удалось лишь повести пишущего по-русски казахстанского прозаика Александра Кана «Сны нерождённых», дожидавшейся публикации, похоже, с 1994 года (такая дата стоит под её текстом). Она выбивается из всех порядков, следуя в своём построении логике сновидения. В то время как все прочие тексты октябрьской «Дружбы народов» являют нам дневную, видимую сторону жизни, повесть Кана представляет её скрытую от наблюдения и рационального понимания изнанку. У показанных здесь событий нет координат ни во времени, – невозможно догадаться, в какую из исторических эпох всё это происходит (в какое-то очень размытое «наше время», можно заметить разрозненные приметы знакомой нам цивилизации: железные дороги и телефоны уже существуют, компьютеров, кажется, ещё нет), ни в пространстве (отдельные имена – Анна, Еврипид, Ифигения в Тавриде – отсылают к культуре явно европейской, некоторые имена: Ваня, Клава, Шурик, Захарченко – и реалии: милиция, горсовет, – несомненно к русской и даже советской, иные же – Шин, Хо – и вовсе неизвестно куда). Настоящее место действия здесь – зыбкое пограничье между той областью бытия, что известна нам, и какой-то ещё, куда возможно попасть (по подземным трубам, точное назначение которых, впрочем, неведомо), откуда возможно даже вернуться, но сказать о ней – кроме того, что она какая-то совсем другая – невозможно ничего вообще. «…О-о-о-о, я не знаю, как вам всё это объяснить, и смогу ли я когда-нибудь это сделать, ведь на самом деле того места, откуда я к вам пpишёл, для вас не существует, и вы будете абсолютно пpавы, хотя там и множество людей, но все так же, как и я, думали, что там что-то есть, но поняли, что там на самом деле ничего нет, но возвратиться – ух! – не каждый отважится, потому как все стойко делают вид, что там что-то есть, и так – до конца своей жизни…».
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети