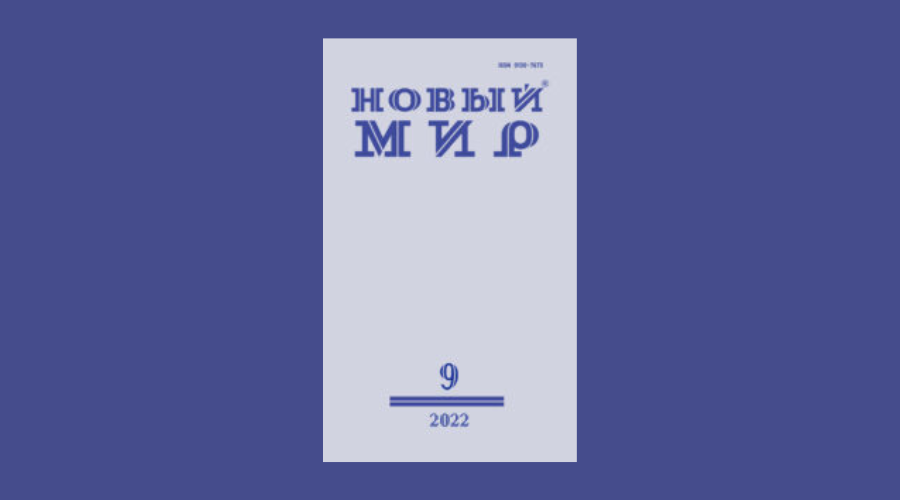«Новый мир» № 9 (1169), 2022
Литературно-художественный журнал «Новый мир» издаётся в Москве с 1925 года. Выходит 12 раз в год. Тираж 2000 экз. Публикует художественную прозу, стихи, очерки, общественно-политическую, экономическую, социально-нравственную, историческую публицистику, мемуары, литературно-критические, культурологические, философские материалы. В числе авторов «Нового мира» в разные годы были известные писатели, поэты, философы: Виктор Некрасов, Владимир Богомолов, Владимир Дудинцев, Илья Эренбург, Василий Шукшин, Юрий Домбровский, Виталий Сёмин, Андрей Битов, Анатолий Ким, Георгий Владимов, Владимир Лакшин, Константин Воробьёв, Евгений Носов, Василий Гроссман, Владимир Войнович, Чингиз Айтматов, Василь Быков, Григорий Померанц, Виктор Астафьев, Сергей Залыгин, Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Руслан Киреев, Людмила Петрушевская, Ирина Полянская, Андрей Волос, Дмитрий Быков, Роман Сенчин, Захар Прилепин, Александр Карасёв, Олег Ермаков, Сергей Шаргунов и др. В журнале дебютировал с повестью (рассказом) «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын (1962, № 11).
Андрей Василевский - главный редактор, Михаил Бутов - первый заместитель главного редактора, Марианна Ионова - редактор-корректор, Ольга Новикова - заместитель заведующего отделом прозы, Павел Крючков - заместитель главного редактора, заведующий отделом поэзии, Владимир Губайловский - редактор отдела критики, Мария Галина - заместитель заведующего отделом критики.
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной»
Новая подборка Геннадия Русакова «Не просто для счёта» открывает сентябрьский «Новый мир» за 2022 год. Это разговор «о времени и о себе», где примирительный пафос задан жестом благодарности и прощания:
годовщины моей нынче вымершей роты.
Подведение итогов жизни и сопутствующая этому саморефлексия – одна из смысловых доминант подборки. Лирический субъект глядит на себя через скептический взгляд Другого, принимая чужие оценки и одновременно иронизируя над ними:
спал у тёщи на тощем диване…
В автопрезентации лирического субъекта значима идея сиротства/изгойства и вместе с тем избранничества: «Отблеск славы лежит у меня на лице… / Как всегда, не моей, а титанов былого». А традиционная для поэзии Русакова рефлексия о земной и посмертной славе становится поводом для прямого высказывания, открытого обращения к читателю:
Это всё, что я успел нажить.
Если читать подборку как развертывание поэтической мысли, то можно заметить, что рефрен «жизнь прошла» в ее начале сменяется утверждением «Мы ведь в мире не просто для счёта, / мы нужны, и без нас – никуда» к финалу. Жизнеутверждающий, но беспафосный пафос тихой лирики, без фанфар и героики воплощает, на мой взгляд, лучшее из стихотворений подборки:
И вскоре не станет его.
Диалог с поэтической традицией обеспечивает богатство регистров и модуляций. Перекличку классиков и современников начинает первая же строка, которая воспроизводит фетовский трехстопный амфибрахий: «Какая холодная осень! / Надень свою шаль и капот. / Смотри, – из-за дремлющих сосен / Как будто пожар восстаёт». И здесь же «Воспоминание об осени» Андрея Дементьева: «Какая спокойная осень… / Ни хмурых дождей, ни ветров». Осень Русакова и холодная, и спокойная сразу. Воистину «память метра»!
Бог, который в этом неярком осеннем пейзаже живёт «будто рядом», позволяет вспомнить стихотворение Бродского «В деревне Бог живет не по углам…» Концепт осени как уборки всего лишнего/отжившего в мире неочевидно восходит к тютчевскому тексту «Есть в осени первоначальной…» с его пустотой и хрустальностью воздуха. А затем в поэтический диалог решительно вступает сентябрь-дворник Александра Кушнера:
Оборки, которые были к лицу…
Архаичная сама по себе и вдобавок блистающая «стерня», прозаизмы («в пруду кувыркаются утки») равноправно вписаны в интонацию неторопливого говорения, где по мере перечисления осенних примет разворачивается поэтическая мысль: осень обнажает суть, бытийную основу мира. Убыль лета и закат солнца синонимичны смерти и в то же время свидетельствуют естественный ход вещей. Дар осени – дар простоты и смирения, принятия жизни как она есть.
В сентябрьском номере «Нового мира» опубликовано окончание романа Даши Матвеенко «Чужая юность. III». Действие происходит преимущественно в Петербурге и его окрестностях в конце 1840-х.
«Чужая юность» – кроссжанровое образование. Это и трансформация историко-биографического романа, и литература «young adult» (роман взросления): юные героини проходят первые жизненные испытания, учатся совершать выбор, доверяя голосу сердца. Это и любовный роман в декорациях XIX века. Также заметны редуцированные следы филологического романа: герои «Чужой юности» либо литераторы по роду занятий (Одоевский, Плетнев), либо, как Саша и Надя, всецело захвачены литературой. Роман открыто литературоцентричен: герои рассуждают о поэзии, объясняются в любви при помощи стихотворных строк, слушают лекции об Онегине на историко-филологическом отделении Петербургского университета, пишут друг другу художественные письма. Причем фрагменты из текстов Лермонтова или Державина уживаются с раскавыченными цитатами поэтов XX века и строками современных песен в речи и внутренних монологах персонажей. И как же без Пушкина: он всё время где-то рядом, то как памятник, то как репродукция портрета в комнате Евдокии, то как автор болдинских писем, которые хранит Плетнев.
Автор-персонаж, который не слишком старательно прячется за местоимением «она» во вставках без заглавных букв, учится в Литинституте, там же работает в приемной комиссии, увлеченно бродит по следам Одоевского в Москве 2000 годов. Последнее обстоятельство позволяет атрибутировать «Чужую юность» как метапрозу и автофикшн. Дашу Матвеенко заметно волнуют вопросы женского образования и женского движения в целом: право девушки на самоопределение, на самостоятельный выбор судьбы различимы в спектре проблематики романа. И в этом смысле «Чужая юность» прочитывается как мягкое фемписьмо, без провокативности высказывания.
Рецепция романа во многом зависит от готовности читателя принять умеренную архаизацию языка. Воссоздание контекста XIX века сложно представить без витиеватого синтаксиса, учтивых конструкций, речевых практик дворянского аристократического салона. Манера изложения апеллирует к эпохе неутраченной жизни души, к эпохе романтизма. Такое моделирование речевой среды прошлого придаёт тексту эффект сепии. Насколько современному читателю близок культурный код «милой старины», свидетельствует, например, успех «Лавра» Е. Водолазкина.
Финальная часть романа производит некоторую рокировку в пуле главных героев: фигура князя Одоевского, которая обещала быть центральной, уходит в тень. На передний план выдвигается любовная линия Варя-Стрешнев, восходящая к архетипической для русской литературы модели «девушка и революционер». Окончание, придав некоторую законченность судьбам Саши и Вари, оставляет открытым сюжет Надиной жизни. В эпилоге она с отцом едет на локомотиве, под его руководством построенном. Отцом и автором Наде делегируется право дать локомотиву (а заодно и роману) имя – «Чужая юность». Сам хронотоп железной дороги с ветром в лицо, «трепетом новых пространств» размыкает эту историю в будущее.
Подборка Владимира Губайловского «Вишня в Латинском квартале» продолжает сентябрьский номер. Поэтическая рефлексия связана с памятью об ушедших, что придаёт подборке мемориальный характер, интонации – элегичность:
трудно я привыкаю.
В этом измерении памяти находятся стихотворение-некролог «Памяти Илюши Точкина», эпиграф из Алексея Цветкова, предпосланный другому авторскому высказыванию, вольный перевод с английского стихотворения Иосифа Бродского «К дочери» и некоторые другие тексты, посвященные смерти как таковой. Любопытно устроен один из них – «Люди умирают…»:
Псалом 22
Михаил Лермонтов. Из Гёте
кто туда ушел.
Рожденный на перекрестье двух эпиграфов из Псалтири и Лермонтова, этот текст ритмически ступает след в след лермонтовской просодии «Горные вершины». Но пейзажная лирика отходит на второй или даже десятый план; сквозь гетевско-лермонтовские «тихие долины» начинают явственно просвечивать «долины смертной тени». И лермонтовский концепт смерти как сна, отдыха от жизни получает иное прочтение. Поэтическое высказывание Владимира Губайловского актуализирует не «до» или «после», а сам момент перехода в небытие, предполагая его если не растянутым во времени, то все равно изматывающим, требующим подготовки и отдыха.
Те, кто «туда ушёл» раньше, делают эту дорогу менее страшной, равно как и обещанный спутник, сам лирический субъект: «Нам с тобой дорога / ляжет далека». И здесь нужно привести целиком фразу 22 Псалма из эпиграфа: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Так в стихотворение незримо входит Тот, к кому царь Давид обращается в Псалме. Так авторский текст, исследуя природу смерти, выходит к решению смысловой сверхзадачи – избавлению от страха перед ней.
Другое измерение подборки – французское: Монмартр, Люксембургский сад, Латинский квартал. Частный случай «Заката Европы»: обитатели Парижа, странные старики увидены как реликты, свидетельствующие распад («Tous les jardins sont morts» – «Все сады мертвы») и сами подверженные распаду:
Тело медленно тлеет…
Третье измерение – математическое. Автор подборки закончил мехмат МГУ. Среди «математических меток» подборки – скрупулезно подсчитанные дни в заглавии «60 лет или 21916 дней» и стихотворение «Элементарная теория вероятностей», объясняющее «проигрыш сто раз подряд», фатальную несчастливость одной судьбы.
Все три измерения – мемориальное, французское, математическое – пересеклись в мини-цикле «Вишня в Латинском квартале», посвящённом памяти Владимира Арнольда. Её героем стал известный ученый, один из крупнейших математиков XX века, последние годы работавший и умерший в Париже. Традиционный для жанра «поминального слова» мотив скорби у Владимира Губайловского уходит в подтекст. Коммуникация с ушедшим строится как попытка дать ему голос.
Стихотворение «Простое и сложное» – это реплика на знаменитый манифест позднего Пастернака:
Но сложное понятней им.
Размышления самого Арнольда о стихотворении Пастернака, вынесенные в пространный эпиграф, позволяют предположить, сколь радостна для Губайловского возможность вступить в диалог с текстами значимых для него людей. Это тройное рукопожатие поверх времён. Различима авторская интенция не просто дать прозвучать голосу своего героя, а реконструировать стиль или способ его мышления:
Донести до садка не успеешь…
Арнольд в этом мини-цикле предстаёт как философ и метафизик, мудрец и лирик. Вот Париж, увиденный двойной оптикой – как Губайловскому представляется, каким виделся город Арнольду:
Но уже хочется снять куртку...
Рассказ Михаила Тяжева «К тому берегу» продолжает сентябрьский номер. Герой Олег Карпов едет в деревню на похороны бывшего друга Славы, получив письмо его жены. Выясняется, что восемнадцать лет назад Елена нравилась обоим друзьям, и Слава нарушил уговор, женившись на ней. Старая любовная драма оживает в этом траурном обрамлении. Центральный мотив рассказа – страх и его преодоление. Ситуации проверки рассыпаны как в прошлом, так и в настоящем. Елена объясняет свой выбор тем, что они со Славой не побоялись прыгнуть с парашюта, в отличие от Карпова. Сын Елены, чтобы заработать денег на поездку «на войну» и преодолеть страх перед болью, позволяет избить себя бизнесмену-невротику («Жена изменяет. Хочет почувствовать превосходство»). Последнее испытание, которое подкидывает автор своему герою по дороге домой, даёт ответы на вопросы, трус ли Карпов и даже зачем он приехал.
Обращает на себя внимание кинематографичность прозы Михаила Тяжева, особым образом выстроенные сцены-кадры: «Ряба присел на корточки, лицо его было сосредоточенным. Он прислушивался к щебету вечерних птиц. И тут он заметил среди еловых веток мелькающее и белое. Поднялся». К достоинствам рассказа можно отнести реалистичную манеру письма и обилие живых диалогов с достоверной интонацией.
Поэтическая подборка или, скорее, цикл Сорина Брута «игрушечные стихи о жизни и смерти» в сентябрьском «Новом мире». Главный лирический топос – Москва. Некоторые стихотворения прочитываются как гид по городу, где прогулка становится и стратегией его присвоения, и способом самопознания:
ему как воздух…
Позиция наблюдателя здесь ключевой момент. Москва предстаёт как искаженное пространство, непарадную изнанку которого возможно увидеть (кастанедовским?) расфокусированным взглядом:
город будет тут
Провокативный образ горящего города обусловлен идеей очищающего преображения, радикального обновления: «На улице темно. / И город весь поджечь / тебе, наверно, не удастся». И далее: «Пускай горит Москва, отогревая воздух». Своеобразного апогея эта идея достигает в стихотворении «Закат», открывающем цикл:
Скучно
«Городской текст» Сорина Брута актуализирует конфликт между частным и общим пространством с неизбежным обезличиванием человека. С осмыслением города связан сквозной образ коробочки как универсальной метафоры отъединенности и одновременно фрустрации, внутренней пустоты:
на эскалаторах плыли вниз…
Сценарии взаимодействия с ограниченным пространством в поэтическом цикле Сорина Брута вариативны. Достоверный опыт клаустрофобии как инициации, как репетиции смерти позволяет пережить стихотворение «А потом…»:
в безвоздушном пространстве, уметь зачем-то…
Запертость в комнате и запертость в теле уравнены иррациональным страхом: «Как ты плотно в теле обжился / и уже никогда / не выберешься» («В теле»). Погребённость репрезентирует и самоощущение игрушечного барсука: «просто заперт в теле маленьком / и бездвижном, как в коробочке, / и никак не может выбраться».
Лирический сюжет цикла разворачивается как история богооставленности человека в мире. Отсюда его проблематика – стратегии эскапизма, идентичность, отчуждение от своего тела и отчуждение вообще. Отсюда эмблематика окон, игра теней и света, игра проекциями макромира на микромирах – карте и глобусе. Движению поэтической мысли подчинена каждая из четырех частей цикла, при этом эволюционируют сквозные мотивы и образы. Два финальных стихотворения, две молитвы («Молитва об игрушечном барсуке» и «Белая молитва») возвращают нас к смыслам заглавия. «Игрушечная» тема у Сорина Брута – это апелляция к самой природе детства с его чистотой, онтологической открытостью, и одновременно – обнажение неподлинной, игровой сути мира. Но сближение с детским/игрушечным миром парадоксально отрефлексировано не как стратегия эскапизма или последний оплот инфантильности. Это, скорее, диалог с высшим «Я», взгляд в лицо реальности, мужество обречённых:
Ты будешь жить в моем кармане...
«Белая молитва» репрезентирует Москву как сказочное пространство, преображенное снегом и детской оптикой. Город-объект созерцания в начале цикла становится единым целым с наблюдателем к финалу. Иными словами, примирение со столицей, который ранее лирический субъект призывал сжечь, состоялось:
как родных, и дома, и машины, и землю между домами.
«А когда-нибудь» как зачин в таких нарративах вообще идеален, потому что под ним скрывается «никогда». Но адресату поэтической речи об этом знать рано. Модальность будущего времени, поддержанная медитативной просодией длинной строки, задаёт перспективу, обещает утешение и защиту (потому что в настоящем всё плохо, но это между строк). По сути, перед нами речевая практика заговаривания горя. Мотив запертости/погребённости, теряя клаустрофобность, приобретает в «Белой молитве» коннотации чаемого будущего: «Помолись ему, и окажешься заметенным». Но это будущее специфично. Потому что, с одной стороны, Сорин Брут рассказывает историю о возможности духовного обновления, преображения. С другой стороны, альтернативой страданию данный текст предлагает зимнюю смерть, её блаженное забытье.
Зима работает как анестезия. Её хронотоп предоставляет возможность выхода из экзистенциального тупика. И это очень национальная история, русский код – достаточно вспомнить мотив укрывания метелью у Пушкина, Толстого, Чехова, Пастернака. Драма богооставленности в «Белой молитве» преодолевается не только благодатью зимы, но и обращением к Богу детей. Присутствие Бога, хоть и детского (особенно детского?) возвращает миру сакральность. И это главная поэтическая интуиция цикла Сорина Брута «Игрушечные стихи о жизни и смерти».
Рассказы дебютантки «Нового мира» Елизаветы Макаревич «Ничейное, неважное» в сентябрьском номере. Публикацию предваряет вступительная статья Руслана Киреева. Первые три рассказа объединены заглавием «Снимки, сделанные за лето». Фигуры родственников – бабушки, отца, троюродного дяди увидены внимательными и любящими глазами. Общий контекст этих этюдов – «я-нарратив» воспоминаний о детстве. Повествование высвечивает новые смыслы в семейных историях. Бабушка, которая всё уменьшается в физическом мире, пропорционально этому вырастает в пространстве памяти. Дядя Лёша, «последний битник», который постоянно пьёт, оказывается увлечённым собирателем и хранителем истории семьи. А папа… этот рассказ состоит из одной строки: «Я пожалею, что боюсь сказать это вслух. Папа, я люблю тебя». Ракурс из будущего времени и неартикулированная мысль «когда тебя не будет» сообщает авторскому высказыванию особую модальность. Это жест одновременно любви и прощания.
Рассказ «Ничейное, неважное» выглядит как джокер в достаточно сентиментальной колоде и написан в другой манере. В нём исследуется проблема отцов и детей, проблема насилия и суицидальных состояний. Героиня – студентка Лера, продавщица в отделе подарков. Её жизнь выглядит как череда негативных ситуаций: повредила ногу в 13 лет, пришлось отказаться от танцев, затем болезнь и смерть матери, у отца другая семья. Нелюбимая работа. Свидание с незнакомцем в баре выглядит как выход из одиночества.
Эта история кружит вокруг одного события, о котором говорится умолчаниями и эвфемизмами. Даже наедине, в разговоре с диктофоном: «...И с тех пор я все думаю кое о чем, причем думаю постоянно, когда слушаю музыку, когда пытаюсь читать, когда еду в автобусе и засыпаю; как будто существую одновременно тут и там». Воспоминания Леры маркированы скобками. Но постепенно травмирующее событие и обстоятельства, которые к нему привели, освобождаются от скобок и заполняют пространство текста и пространство сознания героини. Нелинейное развертывание истории и монтажный характер повествования соотносятся с болезненной реальностью травматика: дискретный мир неприятных звуков, чужих людей, подспудное желание бегства, постоянная нехватка воздуха. Её самоощущение «Лера одна на дне стоячего водоема» симптоматично. «Ничейной, неважной» оказывается сама героиня.
В финале девушка приезжает в старый дом, предназначенный на продажу. Пустой, запущенный и обворованный, он символизирует её душевное состояние. Прежде чем решиться зайти внутрь, Лера засыпает на старой тракторной шине: «Эту шину бабушка попросила прикатить местных ребят (за деньги на мороженое). Ей почему-то казалось, что здорово будет разбить в ней клумбу. Видимо, так и не собралась: шина зияла нулем». Сон в зияющей нулём шине если не обнуляет прошлое, то как минимум что-то неуловимо меняет в мироощущении: «Подремав не более четверти часа, она просыпается с болью в затекшем теле и с осознанием того, что надо делать. Лера подхватывает рюкзак с болтающейся на лямке веревкой, закидывает его на плечо, берет лом и идет внутрь». Вот он, открытый-открытый финал: всё вроде бы хорошо, и у Леры, кроме решимости, есть с собой лом… но меня немного беспокоит этот моток веревки.
Стихи дебютантки «Нового мира» Влады Баронец «Я должна ничего говорить» продолжают сентябрьский номер. Особенности этой подборки – укороченная строка, упраздненная пунктуация, свободный ритмический рисунок, нерегулярная и нарочито безыскусная рифмовка («звенит-летит», «раскрывается-называется»), размытость субъекта говорения. Маркеров его идентификации немного: лирический герой поэзии Влады Баронец крайне осторожен и не стремится выдать своё присутствие. Фигура говорящего в большинстве текстов деперсонифицирована, её как будто замещает метаголос коллективного бессознательного, родовой памяти etc: «Говорят ни в одном саду не цвело», «Потом порвался кабель / Говорят / И молнии сверкали / Говорят», «говорят не такой уж / плохой сервис». В одном из стихотворений это множественное чужое сознание репрезентировано странной сущностью, сопоставимой с сологубовской Недотыкомкой: «Слушали и со смеху покатывались / Но ему из жалости не показывались / Пробегали клубочками травяными / Сухими земными».
Коммуникация с миром задана мотивом говорения/молчания, но не исчерпывается им. Кричат соседи, поет воздух «чуть влажный от купанья», «весело звенит» падающая ложечка, издаёт «пронзительные звуки» чайник… Молчание отрефлексировано апофатически, как нулевой речевой акт:
я должна ничего говорить
Ситуация молчания опознаётся как ложная свобода. Мотив невозможности высказывания проблематизирует репрессивную природу власти: «подойдут поведут / и помнётся лиловое платье / припрятанное приталенное… / не посмотрят затопчут кровать». Императив долженствования организует коллизию, скрытый конфликт в сюжетах этой подборки: «Но скоро какой-нибудь праздник / Мы должны побелить и сжечь». Здесь речь идёт о сезонных работах в парке: надо побелить (стволы?) и сжечь (листья?). Неполнота синтаксиса попутно обессмысливает сами эти действия, ритуальные коллективные действия вообще. Эллипсисы (пропуски слов) – еще одна особенность подборки: «Имя у него такое что с трудом», «Всё должно на своих местах», «Такая жара что ни в одном году».
Нарочитое косноязычие создаёт эффект свежести восприятия, детской или наивной речи: «зажмуривалась спиной», «выходец из дома человек», «старушка сторожевая». Этот детский взгляд в подборке соотнесен с приговско-обэриутскими интонациями:
Где на блюдце крошатся слова
Следующая публикация – записки драматурга, сценариста, критика Алексея Зензинова «От века до века». Авторский нарратив охватывает период детства и юности, до окончания института. Сценической площадкой служит Кострома 60-х годов с ее провинциальной эстетикой и советским колоритом. При некоторой спонтанности и нелинейности (что обусловлено прихотливой природой воспоминания-припоминания), «воспоминания драматурга» отличаются тщательной отделкой, литературностью подачи. Метафоры, сравнения и другие блёстки художественного стиля – неотъемлемая составляющая этих записей: «Черно-белая хроника – как перебинтованное раненое время».
Исповедальный характер записей несколько дезавуируется комичными диалогами, фарсовыми сценками, театральной аффектацией. Ироничен поиск истоков собственного творчества: «Следующее событие – драма отчуждения. Мне прочитали «Муху Цокотуху», и почему-то я решил поставить эту сказку в детском саду. Распределил роли и попытался режиссировать, но остальные дети, наплевав на мой замысел и сверхидею, на мизансцены и трактовку, а заодно и на бессмертное творение Чуковского, занялись своими играми. Я сначала уговаривал, потом грозил, в конце концов просто разрыдался. Настоящая истерика случилась – первая, сильнейшая, с воем во весь голос и удушьем от непрерывных всхлипов, в будущем распалить себя до такого градуса не удавалось уже никогда. Почему меня не слушают? Почему меня не слушают? Почему? Ненависть к глухому, безразличному миру, к тупым, бессердечным детям».
А вот оптика сценариста как она есть: «…пытаюсь найти свое место в этой комбинации из трех фигур – мамы, бабушки и отца. Я хочу понять, по каким правилам они передвигаются в нашем двухкомнатном пространстве». Анализу подвергаются детские сны и страхи, детское восприятие смерти. При этом ощутима авторская интенция воспроизвести экзистенциальный опыт детства, обеспечив чистоту его трансляции (минимизировав его обработку собственным взрослым сознанием). Вместе с тем «От века до века» – достаточно откровенный текст, где зафиксированы первые эротические переживания, первый алкогольный опыт, студенческие похождения.
Особый характер взаимоотношений художника со временем – лейтмотив этих записей. «Неоплаканный век под номером двадцать» здесь не фон воспоминаний, а полноправный герой. Обширные пассажи посвящены размышлениям о природе памяти. Игры с памятью включают в себя терапевтические практики работы с прошлым: «Эта история до сих пор царапает память. Не дает себя выжить из прошлого. Или выжечь. Или убить. Я пытался ее использовать – и грубо, и тонко. Вставить в какой-нибудь сценарий, словно ключ в скважину, повернуть и открыть, чтобы попасть хоть куда-то. Или развернуть ее, словно скатерть, застелить длинный стол рассказа, сервировать подробностями».
Свой эго-текст Алексей Зензинов пишет с большими перерывами – предыдущая публикация записок «От века до века» была в «Октябре» в 2015 году. Надо думать, главная история о романе с театром ещё впереди.
Камерная, негромкая лирика Германа Власова представлена в сентябрьском номере. Его новая подборка «Парка, серая швея» – букашечья, травяная и очень птичья: встретим синицу, иволгу, сорок, голубей, утят. В ней так много полёта, дождя и летнего света, что веришь авторскому утверждению: «лучше влажным летом / пишутся стихи». В «дачном» слое подборки (который включает заросшие, зеленые дворы Юго-Запада плюс Тропарёвский парк) веет пастернаковский дух, его образы, ритмы, размеры:
на ветках капли солнечные в нимбе.
Персонификация дождя у Германа Власова антропоморфна и даже несколько обыденна: дождевик с капюшоном, сутулая сероватая спина... Что не отменяет мистической трактовки образа: крылатая молния в руке и лицо, «мелькнувшее в разгоряченном тигле» (метафора грозового неба) маркируют дождь как божество, демиурга. Звук дождя – часть бытийного гула. Заставив замолчать всё остальное, дождь говорит сам, то есть «барабанит» не бессмысленно: «о том, что жизнь не только глупый цирк». Оправдывая жизнь, он ещё особым образом воздействует на неё: сужает/убавляет круг близких, соединяет в одно кольцо «окно, деревья, штору и крыльцо» и, наконец, позволяет «прозвучать» каплям на солнце, которые, в свою очередь, обладают даром «высветлять печаль». В этом ступенчатом, каскадном, взаимозависимом действии ощутима логика и странная гармония. Так явлена алхимическая природа дождя, чья цель – трансформация дискретных элементов мирозданья через их слияние.
В подборке присутствуют два текста, написанных в современной технике потока сознания, без пунктуации и заглавных, без разделения на голоса. Так, стихотворение «приди пришёл рассказывай…» представляет собой диалог двух сознаний, и неочевидно, какое из них принадлежит лирическому субъекту:
пускай себе летит на свет свечи
Поэтический текст вычерчивает траекторию от намерения, невнятной интенции до акта творения и далее до прозрения об обреченности красоты (а бабочка, летящая на огонь, всегда об этом). Обрывы слов здесь – броский поэтический приём. Впрочем, оставшейся части слова достаточно для распознания смысла. Незаконченные слова коррелируют с аморфностью состояния первоматерии – глины и языка до воздействия на них, до творческого усилия. По мере того, как в лирическом сюжете из глины лепятся голуби, гнездо, ветвь оливы, речь тоже обретает форму, слова – законченность. Свободная графическая запись сменяется целостной стихотворной строкой. Финальный катрен уже обладает всеми признаками силлаботоники: регулярный ритм, размер, рифма.
Стихотворение «пришла и волосы ерошит…» демонстрирует сходную поэтическую форму внутреннего монолога. Но в коммуникацию с субъектом речи вместо фигуры Создателя вступает другой, тоже призрачный собеседник:
хованское белое участок сорок шестой
Это текст о непереносимости одиночества, о работе горя, об играх, в которые играет память. Ситуация встречи с гостьей из мира мертвых (мать или жена?) не выглядит как метафизический акт: она пьёт кофе, пытается шить или штопать... Можно проследить, как постепенно истончается фантом, от вполне внятного физического действия («волосы ерошит») до превращения только в голос докучливой заботы («надень толстовку поддень пару кальсон / зажги духовку»). Перед нами нарратив пограничных состояний: «явь это или сон». Осмысленная речь еще не соскальзывает в безумие, но этот вектор задан: «ноябрь некуда деться ноябрь одна один / одно целое одни в одной шестой».
Пожалуй, единственная строка, которая имеет отношение к реальности – последняя, о кладбище, занесённом снегом (хотя кухонный георгин и полотенце, возможно, тоже сохнут всерьёз). Всё, что до неё, кажимость и происходит в сознании лирического субъекта. Драматичен сам прыжок от «одного целого» до участка сорок шесть на Хованском (кладбище), от безумной надежды до принятия существующего положения дел. Такова современная вариация элегии на смерть с элементами «страшной» баллады, где мотив скорби и горевания задан не прямым авторским высказыванием, а фиксацией потока сознания.
Рубрика «Опыты» представляет публикацию Дмитрия Бавильского «Бремя полого человека» с подзаголовком: «От пастиша слышу: как поначалу необязательный и случайный прием ложится в основу практически всей актуальной культуры». Цитата: «Карго-культ признания и успеха – это когда премии и круглые столы, телеканал «Культура» и книжные ярмарки, статус «публичных интеллектуалов» и тиражи выше среднего заворачивают, как в оберточную бумагу, даже не в эпигонство, но в имитацию, паразитирующую в лучшем случае на выхолощенных жанровых ожиданиях, не несущих подлинного содержания».
В рубрике «Литературная критика» опубликован материал Лизы Новиковой, Вл. Новикова «До тридцати поэтом быть почетно. О первом поэтическом поколении двадцать первого века». Статья содержит ряд ценных наблюдений о «водяных знаках» поэтов, рождённых после 1990 года (он выбран точкой отсчёта). Среди этих меток – убывание интертекстуальности, свободный стих как стиховой пароль нового поколения, скупость в использовании местоимения первого лица, вневременность картины мира, сюжетность. О справедливости наблюдений свидетельствуют поэтические подборки номера.
Далее читателя ждёт обзорная статья Аркадия Штыпеля «Фантастические сюжеты в современной русской поэзии». Фантастическое как часть поэтической картины мира автор обнаруживает в текстах Юрия Кузнецова и Давида Самойлова, Иосифа Бродского и многих других. Цитата: «Современные поэтические фантазии, как правило, ирреальны, зыбки и не позволяют или почти не позволяют отличить авторскую фантастическую реальность от психических аффектов героев. И опираются, как уже было отмечено, на низовые жанры – космооперы, компьютерные игры, городской и в меньшей мере деревенский фольклор, детские «страшилки», ушедшие в народ песни».
Филипп Хорват в статье «Триединый лик современного исторического романа. «Филэллин» Л. Юзефовича и «Мое частное бессмертие» Б. Клетинича» подвергает анализу трансформацию одного из самых консервативных жанров – исторического романа.
В разделе «Рецензии. Обзоры» две публикации. Александр Мелихов рецензирует документальный эпос Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве» о сыне Марины Цветаевой Георгии Эфроне. Цитата: «И почему же парижский мальчик, почти сломленный тыловыми лишениями, оказался героем перед фронтовыми ужасами? Да потому, что эти ужасы не унижали, а соответствовали масштабу его личности, масштабу его притязаний. Если угодно, он впервые встретил противника, не оскорблявшего его достоинства, его личной чести».
Александр Чанцев размышляет над книгой «Узелки времени. Эпоха Андрея Волконского: воспоминания, письма, исследования». Критик вписывает героя книги – музыканта, «инфлюэнсера, харизматика и культовую фигуру» в современный московский контекст: «В наши дни бы точно пил перед – или после – или и то и другое – концертом в одном из питейных заведений Ицковича или в Noоr Bar на Тверской». Рецензия также содержит любопытные наблюдения Александра Чанцева над стандартной западной новой классикой: «Увы, едва ли не главным для композиторов становится, на фоне определенных принятых и востребованных шаблонов, сделать совершенно то же, лишь продвинувшись на полшажка (целый шаг может уже и не вызвать понимания) по проторенной же инновационной тропе. Музыка становится отличной лишь именами, но не содержанием».
Традиционная рубрика «Библиографические листы» позволяет ознакомиться с последними новинками книжного рынка и периодики. Отфильтровывали заслуживающее внимания Сергей Костырко и Андрей Василевский.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети