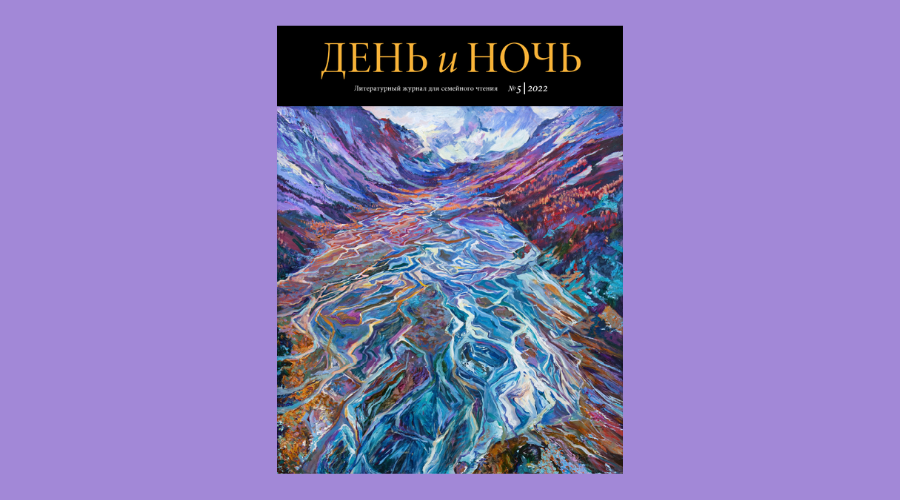«День и ночь» № 5, 2022
Литературный журнал для семейного чтения «День и ночь» издается в Красноярске с 1993 года, Выходит 6 раз в год. Публикует прозу, поэзию, драматургию, литературную критику, документальные исследования, публицистику. Огромное внимание редакционная коллегия уделяет семейной тематике: в журнале систематически публикуются семейные хроники, мемуары, произведения ветеранов войны и труда, наиболее удачные стихи, рассказы и повести пенсионеров, публицистика, привлекающая общественное внимание к острым проблемам социальной жизни и культуры. Инициировала создание журнала группа красноярских писателей, которую возглавил поэт, прозаик, драматург и общественный деятель Роман Солнцев. Идею красноярского литературного журнала «не хуже московских» сразу поддержал Виктор Астафьев.
Главный редактор: Вадим Николаевич Наговицын. Заместитель главного редактора: Марина Олеговна Наумова-Саввиных. В редакционную коллегию журнала входят критики портала: Нина Ягодинцева и Владимир Шемшученко. Подробнее об издании.
Меж городом и селом
Пятый номер красноярского литературного журнала «День и Ночь» за 2022 год посвящен образу маленького, странного, сокровенного человека, уже ушедшего из времени деревенской, поселковой, окраинной России, но так и не ставшего в полной мере горожанином, тем более жителем мегаполиса. Психологически, ментально, по образу жизни герой выпуска – чаще всего современник 90-х – так и находится в условном безвременье, ища путь внутри себя. Иногда «обычный житель» становится героем своей эпохи, но не идет ли такая судьба рука об руку с трагедией?
Обитатели Тувы из рассказов С.К. Шойгу, возможно, счастливы жить в своем привычном мире и вовсе не хотят «быть спасенными» носителями прогресса и цивилизации. С. Кузнечихин в новелле о перестройке повествует о незамысловатой судьбе пожилой матери и взрослой дочери, продающих сельский дом в надежде на квартиру в городе. Юная героиня Иветты Лишенко, жительница маленького сибирского городка, мечтает о военной карьере, по примеру героического деда, однако сознает ли она все тяготы подобного пути для женщины? Прекрасная проза Надежды Кусковой показывает нам самобытных персонажей уходящего в прошлое села: самодостаточную старушку Саню-Маню, не привыкшую уповать на власть, но и не понося́щую ее; пенсионера, надеющегося перед смертью увидеть деревню детства Озерки. Юный герой необычного рассказа Виталия Орлова мечтает стать… слугой при богатом олигархе – не из-за «лакейской натуры», а потому что любит ухаживать за конями, заботиться о хозяйстве, находит общий язык с животными и людьми. Павел Чхартишвили и Геннадий Васильев делают своими героями «чудны́х» персонажей – интеллигентка Муза Ребрикова страдает асексуальным расстройством, талантливый архитектор разрушает жизнь окружающих своей суицидальной манией. Лучшими вещами номера мы бы назвали нестандартный психологический рассказ о внутреннем мире подростка Татьяны Кыровой «Чингачгук не может умереть», показывающий, какой сложной, глубокой, взрослой личностью может быть «обычная» школьница, и поэзию Олега Мошникова из Карелии – философскую, неоднозначную, доступную простому читателю, но вовсе не простую.
Несколько небольших рассказов из документальной книги С.К. Шойгу «Про вчера» повествуют о мире далекого детства героя в Туве 70-х годов, из которых сохранилось в памяти скорее хорошее. Как родители забирали на выходной малышей из круглосуточного детсада, как интересно жили представители малых народов на краю света (автор замечательно говорит: «То, что люди живут не так, как мы на материке, совсем не значит, что живут хуже и нам надо бороться за их светлое будущее»), юношеские попытки понять родную историю в разговорах с отцом, студенческие поездки на целину. Мир, состоящий из местных оленеводов и ссыльных всех сортов, представляется непростым для выживания, однако слаженным в работе и дружелюбным к гостю. Ретроспектива почти всегда делает прошлое чуть лучше, чем оно было на самом деле, однако главной чертой былого рассказчик видит его неоднозначность. Автор стремится найти равновесие между мыслью о вмешательстве в уже устоявшуюся жизнь и меньшим злом – позволить сложившейся культуре быть такой, какая она есть.
Известный литератор Нина Ягодинцева в своей интересной, но спорной публицистической статье «Смыслы и ценности эпохи Водолея» говорит о страхах закоснелого в привычном образе жизни человека перед возможными катастрофами грядущего. По мнению автора, ХХ век был сфокусирован на «куске хлеба», и идея материального потребления возобладала в потомке великого этноса над значением духовного, христианского пути. Кто-то усмехнется, что голодного в равной степени мало привлекают и наука, и путь души, и искусство, и рассуждения об отказе от эгоизма! Но исследователь верит в возможность внутренней эволюции личности в соответствии с божественными законами, приводя фигуру Ф.М. Достоевского как эталон. И предостерегает читателя от освоения космических пространств и технического продвижения ради продвижения – в то время как человек утрачивает свои духовные основы, понятие о служении ближнему, гуманистические принципы. Такое рассуждение видится несколько крайним, однако поиск путей принятия возможного будущего важен для нас, как и мнение педагога и творческой личности. Любопытна мысль публициста, что мы движемся туда, куда смотрим, даже не желая этого.
Юрий Ромашков в познавательном очерке по военной истории «Он летал в одной паре с «сотым»» рассказывает о биографии «ведомого» Покрышкина – аса Г.Г. Голубева. Гораздо менее известный, но сделавший существенный вклад в победу, этот летчик прикрывал в воздушном бою маневрирующий самолет известного героя, обеспечивая ему защиту. По причине виртуозности Покрышкина уступающие ему в техническом мастерстве сопровождающие становились легкой добычей противника, Голубев же – один из немногих, кто сумел приспособиться к легендарному «ведущему», получил множество наград, а после войны сделал карьеру летчика-инспектора.
Подборка новосибирского поэта Николая Лухтина, ушедшего в 2010 году, ровесника Николая Рубцова и во многом его последователя, полна горькой любви к той Родине, которой уже не вернуть. Нет на свете бабки и деда, изменились пейзажи детства, профессии стали другими, и только чувство к земле Ангары и Енисея неизменно в душе ее сына. Традиционные, близкие новокрестьянским по тематике, такие стихи кажутся памятником тому образу пограничного мира, который наполовину утонул в старине, наполовину открыт в будущее. Сближает автора с великим вологодским поэтом и биография: несколько специальностей, жизнь на разрыв между селом и городом, поселковое детство и тоска по тому, что утрачено навек. Душа лирика, соединяя, хранит в себе всё – и мечты о неизведанном грядущем, и огромное чувство к земле детства, и случайный поцелуй с девочкой возле лодочного причала.
На сельское и городское.
В литературоведческой статье Аллы Новиковой-Строгановой сопоставляются образы нигилистов в известных романах И.С. Тургенева и менее популярной книге Н.С. Лескова «На ножах». Так сложилось: писатели общались на равных, неплохо знали друг друга, но романы «Отцы и дети», «Накануне» и «Дворянское гнездо» не читал редкий человек, а вот произведение Лескова стало частью прошлого. Исследователь сравнивает романтизированные фигуры нигилистов у Тургенева с откровенным злом всеотрицания, воплощенным у Лескова. Героизм и трагизм фигуры Базарова в глазах Новиковой-Строгановой не имеют ничего общего с однозначно негативными качествами «легиона» нигилистов из более позднего романа: любое зло при желании можно оправдать высокой философией. Не совсем корректным видится лишь вовлечение в контекст анализа романов пересмотра фактов из жизни русского классика. Допустим, управляющий И.С. Тургенева был нечист на руку и данный факт совпал с его еврейским происхождением, но уместно ли (в одной статье) соединять почву для произрастания образов текста «На ножах» со сравнительным анализов творчества двух авторов-современников?
Гражданская подборка общественного деятеля, культуролога и русско-украинского поэта Евгении Бильченко говорит об изменении сознания мирного человека перед лицом исторического катаклизма. Осознав трагедию реальности, героиня не может вести прежнее обывательское существование «с закрытыми глазами», состоящее из работы и домашних дел. Потому что испытывает потребность высказаться, действовать, быть непассивной частью происходящего. Творчество Бильченко публицистично, актуально, включает элемент эпатажа, разрушения привычных очертаний. Образ России в ее стихах – девушка по имели Лера (почти Лара), феминизированная христова невеста (но отнюдь не бунинская затворница). Эксцентричная, часто социально неуместная, окружившая себя котами и новостными сводками, она собирает гуманитарную помощь для раненых. В общем, такая дореволюционная, связанная с Первой мировой фигура сестры милосердия с народничеством в прошлом. В качестве утешительницы героиня то на поле боя, то в укрытиях пытается помочь жертвам военной агрессии – женщинам, детям, беженцам, которые ничего не могут и мечтают только о том, чтобы всё поскорее закончилось и наступил мир.
Мы видим, как в явь претворяются страхи и сны.
Цикл телекорреспондента и молодого поэта Ильи Боровского «За сотни верст от маяты» посвящен общелирическим мотивам: мимолетность жизни, подобной путешествию в поезде; красота мечты о волшебном мире, куда герой мечтает переместить любимую; тривиальная романтика птичьих свадеб. Все это сближает стихи автора с песенной культурой, в которой порой незамысловатый сюжет превращается в народное достояние. Единственное приближенное к злободневности стихотворение о депрессии вызывает невольную улыбку своим выпадением из стереотипа песенных тем:
Снова с «чина» слился «муж».
Подборка русскоязычного нью-йоркского поэта Елены Литинской «Из лета в осень» описывает опыт стареющей женщины, без прикрас видящей свое будущее. Такое откровенное, но вместе с тем лирическое признание о своей жизни не совсем типично для отечественной женский лиры, чаще поэтизирующей глаз осеннюю усталость. Возможно, только в стансах Кати Капович мы найдем прямые слова о том, как японский халат с ярмарки стал ее последней радостью на пороге увядания. Воспринимается такое переживание двояко: это нарушение образа женской пленительности, появление даже неприглядности – в то же время, большинство крупных женских лириков просто не дожили до возраста, когда можно приобрести подобный опыт. Мотивы благодарности за прошлое, вспоминание о былых любовях, страхи болезней, оскудение музы, – кажется, все традиционно. Тем не менее, стоит признать, что тема женского заката, преподнесенная с самоиронией, насмешливой рефлексией над превращением романтической героини в поклонницу телевизора и воспоминаний – интересна нам, нетривиальна, мало затронута и заслуживает внимания. Лирика Литиной простая, незамысловатая, с романсным оттенком есенинского благословения уходящему миру, и все же это не повторение, а личный опыт.
света предрекла конец.
Карельский поэт Олег Мошников в философских стихах пытается осмыслить современные события и советское прошлое страны. На склоне жизни лирический герой вспоминает своего фронтового деда, подвиг которого кажется потомкам напрасным, угасание иллюзий зрелости, вечные ориентиры веры и красоты богоданного мира, в котором только одно удручает – ищущий вражды человек. На первый взгляд охваченный ностальгией по «братству народов» и «славному прошлому», ушедшими в никуда, автор не так прост. Его подборка – работа над своим духовным миром, принятие событий жизни, сотворчество Вселенной. Мошников обладает своим выраженным голосом, негромким и не всем близким, он не оригинален тематически – но не эпигон. Перед нами не только одаренный поэт, но и незаурядно мыслящий человек. «Церковь-музей» и «Глаза луны» – прекрасные балладные вещи о Провидении. Как кажется, творчество автора тяготеет к традиции С. Куняева и Яр. Смелякова.
Мятлик и кислица.
Рассказ С. Кузнечихина «Обещали хорошую погоду» напоминает деревенскую прозу нашей современницы Н. Мелехиной. Время перестройки только входит в большую литературу, и потому внимание критика к нему особенно пристально. Сюжет текста зауряден: «однополая семья» из мамы и бабушки продает сельский дом ради городского жилья получше. Увы, перестроечное время не может предложить стабильности, и еще не старая, крепкая вдова, физически хорошо сохранившаяся, теряет внутренний смысл жить. Конечно, на ум приходит фильм «Родня», осветивший почти все болезненные точки подобной коллизии, да и сложно найти что-то новое в вечной беде безденежья, безмужичья и зыбкого будущего. Главным для автора становятся чувства пожилой героини – мы видим ее не отжившей старухой, а женщиной, личностью, которая страдает, что больше не нужна Стране Советов, которой, возможно, и не желая того, отдала лучшие годы. Вечный вопрос о возвращении вложений и поиске ответчика, наверное, всегда будет актуален для части старшего поколения, верившего в «коммунистический проект».
Два странных рассказа Геннадия Васильева – о немолодом человеке, беседующем с птицами, изъясняющимися языком зоны, и об архитекторе с суицидальным расстройством, – сначала вызывают недоумение. Истории о, мягко говоря, нестандартно мыслящих людях, да вдобавок один из них явно опасен для окружающих из-за попыток организовать «коллективное самоубийство». Зачем это читателю? Как кажется, это напоминание о евтушенковском «все не как все». Знаем ли мы, кто наш ближний? Похож ли его мир – на наш? С одной стороны, это отдает абсурдом, пугает, но с другой – «альтернативная» реальность позволяет увидеть привычное под иным углом.
Детский рассказ Иветты Лишенко производит двоякое впечатление. Он интересен незаурядным поворотом сюжета. Юная кадетка и патриотка Виктория мечтает посвятить себя военному делу: она живет в небольшом сибирском городке, однако пребывает там лишь телом, душой же девочка то в великом прошлом, с предками-победителями, то в неизвестном будущем, где она повторит путь своих родных. Мы вспоминаем мультфильм «Десантник Степочкин», где главный герой не соответствует комплекцией своим мечтам о военной карьере. Так и Вика слаба здоровьем, да и попросту она девочка, однако тем сильнее ее мечта о службе, а не о медицинской специальности, на которой настаивает мама. Напоминая идейных пионеров советской эпохи, и в этом, увы, приближаясь к стереотипному образу, девочка предпочитает фильм «Офицеры» книгам Роулинг и с восторгом участвует в шествии на День Победы. Мы не знаем, кем станет она на самом деле – героем, как дедушка, медиком, как бабушка, просто обывателем, как ее родители, гордящиеся великими предками. Но такая чрезмерная идейность, конечно, смущает в Вике, у которой, как кажется, должно быть детство. Образ мамы делает рассказ менее публицистическим, декларативным. Перед нами живая, не стандартизированная фигура, без крайностей, то есть она ничем не напоминает партийную мать главной героини из ленты «Завтра была война», например. В данном случае, семечко растет само по себе, и один Бог знает, каким плодом оно обернется.
Записки гляциолога (специалиста по льдам) Алеся Мищенко рассказывают об арктической экспедиции. Документальное, емкое повествование знакомит нас с чудесами полярной ночи, ледяных цветов, розы северных ветров, – мы узнаем о мире, в который вряд ли попадем когда-либо лично. И, хотя жанр путешествий по нашей бескрайней Родине и ее труднодоступным уголкам сложно пополнить чем-то новым, такой опыт всегда будет волновать молодого читателя. Ведь каждый век, даже десятилетие – это новые технические и научные возможности, новый взгляд на неизменное.
Два поэта старшего поколения – Виталий Пырх и ушедший из жизни в 2021 году Валерий Кравец – оплакивают утерянную советскую Родину, в которой сразу все стало казаться более настоящим и своим. Поздняя дорога к храму, постарение подружек, вакханалия на экране, – все это создает ощущение потерянности у того, кто когда-то стоял на твердых опорах убеждений. Невозможность смириться с собственным участием в развале того, что с такой истовой верой строили родители, приводит В. Пырха к горьким словам: «Отец вовремя родился. Вовремя и помер».
Из молодых авторов астраханского журнала «Белый апельсин», размещенных в номере на правах гостей, внимание привлекают стихи Юлии Погодиной. На первый взгляд ее тексты кажутся манерно-старомодными, стилизованными под салонные, черубиновские, но сама интерпретация образов, нестандартность мысли и некое лирическое обаяние останавливают взгляд читателя на традиционных сюжетах. Что мы видим? Скрытую цветаевскую печаль юной матери, желающей оградить дитя от истины; самоценность женщины, для которой важнее ее принципы, нежели возможный шанс на отношения; веру, что всё в мире связано и за погубленную природу и измятую красу цветка беспечный человек расплатится своей разрушенной жизнью:
Ещё не распустившихся страданий.
Талантливая деревенская малая проза Надежды Кусковой – простая, без дидактики, пафоса, внутренней обиды на историю. Ткань рассказа далека от «чернухи», «бытовухи». Жизнь старухи в забытой властями деревне, смерть бомжа от рук хулиганов, опасающийся ковида подслеповатый дед – что можно найти в этих образах? Кроме социального, злободневного, укоризненного, разумеется. Но всё не так. Читая Кускову, вспоминаешь: не все старые селяне живут, виноватя власть, молодежь и телевизор в своей разбитой, трагической, напрасно-жертвенной жизни. Так уж принято: соцреализм приукрашает, а низовой реализм – усугубляет. Открывая «деревенскую прозу», мы знаем, чего ждать: опустение села, равнодушие городских детей к старикам, алкоголизм отщепенцев, забвение нравственности, которая (якобы) была когда-то… Здесь мы видим старушку Саню-Маню, добродушную, обладающую индивидуальностью, посмеивающуюся и над сменяющимися властями, и над их прихлебателями. Встречаем бомжа Серого, который обменял жилье на ящик водки и исключительно сам загубил свою биографию. Наконец, рассказ «Озерки» и вовсе необычен: вдовый пенсионер, в прошлом руководивший КБ, мечтает перед смертью навестить родину предков – и, встретив провожатого в лице позднего сына старого друга, неожиданно находит в полуразрушенной деревне детства дочь своей давней невесты! Необычные люди, необычные судьбы, сложные вопросы без ответов, а не набор, соответствующий нашим представлениям.
Воспоминания Василия Килякова «Фрески» – своеобразное произведение, в числе достоинств которого честность и художественное изложение. Мы назвали мемуарным жанром то, что по сути ближе розановскому «Уединенному». Книга обо всем, события нанизываются на хронологию. Еще не дряхлый человек, профессиональный литератор, по природе души русской, сочетает несочетаемое в своем потоке размышлений. То погружается в мысли о духовном, святых, особом пути России, указывает на бренность земного. То через несколько страниц делится своим психологическим состоянием от просмотра передач, впадая в вовсе не свойственное верующему раздражение от сытости Штатов и деградации Европы в непотребное язычество. Может, так оно все и есть, но далеко не все мечтают о проголоди и у нас на Родине. Рассуждения об уникальности нашей поэзии и соборном менталитете соседствуют с красочными описаниями того, как рассказчик подглядывал в юности за парящимися в бане девушками. Возмущение русской революцией, погубившей столько народу, тут же переходит в негодование, вызванное возможным неправедным доходом новых русских, – и автор размышляет над перспективой их «раскулачить». Перед нами эмоциональный, противоречивый, сумбурный, но тянущийся к свету и ищущий путь к спасению национальный характер.
Стихи двух поэтесс – Софии Максимычевой и Марины Панфиловой – посвящены, казалось бы, обыденности. Они далеки от злободневности, бурных страстей, высокой патетики и вообще событийности. Незамысловатая, тихая жизнь, однако, претворяется в движение души, становится мелодией, светом. Мысли и чувства авторов близки и понятны любому – лишь бы была здорова мама, остальное не главное; теплое воспоминание детства поможет выстоять в тяжелое время; замечай в мире даже маленькую радость, потому что именно она та соломинка, которая не дает уйти на дно; обратись в сторону жизни, а не уныния, и природа предстанет перед тобой в ее красоте.
(М. Панфилова)
Религиозный цикл Александра Авдеева несет читателю извечную мудрость – нельзя насильно затолкать человека в храм и привести к Богу, духовный путь нелегок, а кривых дорог не оберешься, легко быть святым в скиту и трудно на базаре, легко учить жить – а жить самому сложно.
Ходили бы по волнам.
Психологическая проза Татьяны Кыровой интересна своим исследованием внутреннего мира подростка – не плоским, типизированным, а глубоким. Невольно вспоминается средневековый постулат, что детства не существует. Рассказ с ослабленным сюжетом оставляет чувство незаконченности, но это его не портит. На первый взгляд, литература для юношества: шестиклассница, растущая без отца, являясь смыслом жизни для своей бедной, но трудолюбивой матери в постперестроечный дефицит, переживает первое столкновение с реальным, а не книжным миром. Это мягкое вхождение в правду жизни: честность и порядочность не всегда приводят к успеху и счастью; любовь и уважение не всегда вознаграждаются; бедность может сделать хорошего, но слабого человека полноценным злом. Мы видим, что девочка внутренне зрелый, глубокий человек с духовными идеалами, с вопросами к истории предков, с пониманием неоднозначности плохого и хорошего. И в этой жизни, с которой ее свела судьба – поселковой, мещанской, своекорыстной, – ей, при такой «начинке», не будет просто.
Фрагмент военной прозы Андрея Белозёрова «Трое» посвящен событиям в Молдове 90-х. Трое героев – молодой корреспондент Ефим, видавший виды агитатор Владимир и косоглазая руководительница церковного хора Дойна – попадают в плен к оппозиционерам, откуда только два пути: расстрел или побег. Своеобразному языку рассказчика присуще косноязычие, в основе которого инверсия, читателю порой непросто уследить за сложной политической ситуацией на местности, понять, кто против кого выступает и кто за какие идеи страдает. Поскольку речь об уже далеких от нас событиях, а многие даже и трагедию ГКЧП ныне представляют смутно, то небольшой, но четкий вводный экскурс автора в происходящее был бы кстати.
Прекрасный остросюжетный рассказ Виталия Орлова «Свете тихий» очень прост по композиции, но многодонен, как проза Хемингуэя. На маленьком пространстве текста уместилось несколько судеб, и хотя подробные истории героев остаются за кадром, но иногда по одной детали можно все понять. Злободневно, смело, печально: когда-то известная поэтесса, а теперь алкоголичка пропивает деньги от сдачи жилья – и становится жертвой несчастного случая. Подросший сын, выступающий в роли регулярного спасителя (как часто это бывает!), мечтает не о славе, материальном благополучии и столичном образовании, а… стать слугой в большом хозяйстве нуворишей. Перед нами незаурядный, с нестандартным опытом, но унаследовавший от неблагополучной матери поэтическое видение мира персонаж.
Напоминающая то ли биографические рассказы, то ли наброски к повести, но чем-то привлекательная малая проза Павла Чхартишвили «О жизни, поэзии и любви» посвящена 60-м–70-м годам. Его персонажи – немного странные люди, не платоновские «чудики», конечно, но созерцатели жизни. Дитя сталинской эпохи, Муза Ребрикова страдает от асексуальности, страдает всерьез, однако у героев той поры проблемы были гораздо весомее, чтобы концентрироваться на такой «блажи». Артем, дитя интеллигентного семейства, мучается в политехникуме, в то время как его призвание, видимо, кинематограф. Однако по длинному ряду причин он так и не пересекается со своей настоящей стезей. Рассказчик философски задумывается, а так ли нужна она, эта «большая судьба», чреватая подчас трагедией, а не только вожделенной «реализованностью»? Не лучше ли тихая, неприметная, но зато спокойная, скрашенная маленькими семейными радостями жизнь?
Романтическая старомодная поэма Александра Конопкина об эмигранте, который ждет, видимо, в Италии, возможного приезда к нему подруги Хельги, представляется данью уже неактуальному жанру, стилизацией. И, хотя она легко читается и удачно написана, мы невольно думаем, что же хотел сказать автор такой формой? Конечно, наши классики тоже любили жить в Италии, и обитание там оставило у них приятные воспоминания, как и у героя романа, как сам Конопкин называет свой труд. В то же время, мы вполне согласны, что заграница не Родина, местным жителям приезжий особенно не нужен, а тем более его взбаламученная душа, и со временем чувство комфортной изоляции рождает тоску пусть по менее отлаженной и стабильной, но зато своей, привычной жизни в России. Велико искушение назвать творения автора изящной поделкой, идиллией, но, безусловно, не каждое литературное произведение должно быть смертельно серьезным и снабженным пудом нравоучений.
Совсем не сказочная и не детская повесть-сказка Надежды Герман (невольно задаешься вопросом о фигуре потенциального читателя) посвящена, судя по всему, обитателям пансионата для престарелых, которые проводят время, театрализуя свою печальную жизнь. Если Е. Шварц сочинил «Сказку о потерянном времени» о школьниках, у которых еще есть надежда изменить жизнь, – здесь все иначе. Герои Герман, хорошо ли, плохо ли, уже прожили свой век, и все, что они могут сделать теперь – оплакивать разбитые мечты. Ну, или повеселиться. Надежда есть всегда, даже если ты не стал танцором, не встретил любви, не был оценен родней и миром: главное – сохранить доброжелательность и желание увидеть новый рассвет. Конечно, такое утешение автора порой выглядит несколько сомнительным. Однако его попытка затронуть болезненную тему, в общем-то, никому не нужной старости, которая не лишена элементарного прожиточного минимума, но утратила нематериальный смысл бытия – актуальна сегодня.
Александр Евсюков в очерке «Неудобный герой» повествует о жизни и смерти журналиста и ополченца ДНР Юрия Ковальчука. Уроженец Херсонеса, Юрий с юности мечтал поучаствовать в судьбах этого мира, происходящее в котором казалось ему несправедливым. Участь его не была ни простой, ни легкой, как, в сущности, путь всякого героя. Как и кем его запомнят потомки – и запомнят ли – это вопрос ко времени.
Номер завершается материалом Варвары Заборцевой о воронежском поэте Павле Сидельникове, подборкой сочинений учеников жеблахтинской школы, предложенных на конкурс «Астафьевская весна», и социальной репликой Кати Гришко «Девушки-куклы».
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети