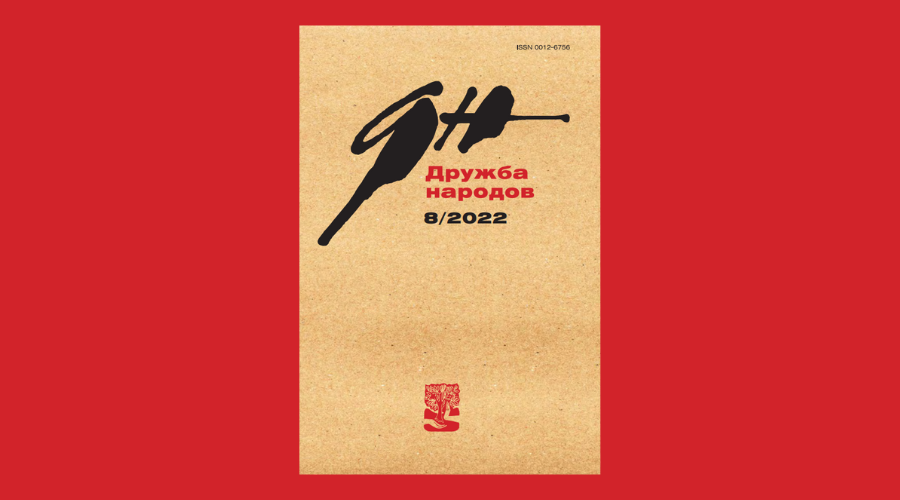«Дружба народов» № 8, 2022
«Дружба народов» — журнал современной литературы и культуры, объединяющий писателей России и зарубежья. Основан в марте 1939 года в Москве. Выходит ежемесячно. Тираж 2000 экз. Редакция уделяет внимание авторам из республик бывшего Советского Союза.
Сергей Надеев (главный редактор), Наталья Игрунова (1-й зам. главного редактора, зав. отделом критики), Александр Снегирёв (зам. главного редактора), Елена Жирнова (ответственный секретарь), Галина Климова (редактор отдела Поэзия), Владимир Медведев (редактор отдела Публицистика), Ирина Доронина (редактор отдела Нация и мир), Ольга Брейнингер (член редколлегии), Мария Ануфриева (член редколлегии), Иван Рудинский (главный бухгалтер). Редакционный совет: Сухбат Афлатуни, Муса Ахмадов, Ольга Балла, Дмитрий Бирман, Денис Гуцко, Иван Дзюба, Валентин Курбатов, Ольга Лебёдушкина, Фарид Нагим, Илья Одегов, Кнут Скуениекс, Сергей Филатов, Ринат Харис, Вячеслав Шаповалов, Эльчин.
Человечество – единая семья
«Дружба народов» – литературно-художественный и научно-публицистический журнал академического уровня. Смысловое поле журнала определяется межэтническим диалогом, взаимодействием различных культур в многовековом опыте человечества.
Основные темы восьмого выпуска журнала за 2022 год: гендерная тема (Денис Банников «Штучка», рассказ, и др.), толстовская тема войны и мира (Лидия Григорьева «Термитник», роман в штрихах, книга третья и др.), тема человеческого счастья и блага (Дмитрий Щедривый «Кружок экзистенциального воя», рассказ и др.); жизнь и смерть (Анна Арнаутова «Земля», рассказ).
Основные публикации восьмого выпуска «Дружбы народов» за 2022 год: Дмитрий Исакжанов «Проскинтарий», роман; Денис Банников «Штучка», рассказ; Дмитрий Щедривый «Кружок экзистенциального воя», рассказ; Анна Арнаутова «Земля», рассказ; Александр Моцар «Два рассказа на одну тему»; Дмитрий Румянцев «На дне развоплощённых дней», стихи; Игорь Куницын «Личная вечность», стихи; Лидия Чистякова «Мне посчастливилось…», мемуары, публикация и вступительная заметка Леонида Дунаевского; Алексей Буров, Геннадий Прашкевич «О собеседниках», два письма на одну тему.
Проза и поэзия журнала «Дружба народов», как одноименная рубрика, соответствует совокупности художественных критериев, представление о которых можно получить в рубрике «Критика». В ней имеется публикация «Сборный пункт. Заочный «круглый стол». В ней современные авторы, поэты и прозаики, размышляют о том, какой должна быть современная литература.
Краткие литературно-критические эссе современных поэтов и писателей предваряют стандартные анкетные вопросы (с. 241):
«Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»).
Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей – своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?
Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?».
Нетрудно заметить, что приведенные вопросы едины по своему смысловому контуру, они по-своему сводятся к одному вопросу: как автор ощущает своё место в литературном процессе, как он взаимодействует с литературой минувшего и кто из коллег по литературному цеху ему созвучен или не созвучен? Эти три вопроса синонимичны и являют собой формулировки одного вопроса. Все три рубрики одного вопроса отчётливо объединены извечной антитезой: «я» и «не я» в поэзии (или в прозе). Поэтому и все три вопроса, приведенные выше, фактически выступают как рубрики одного вопроса или композиционные части одного литературно-критического задания.
Однако при всей цельности малых литературно-критических эссе, публикуемых ниже, авторы позиционируют себя различным образом. Одни склонны намеренно уходить от развёрнутых ответов и сохранять своё внутреннее инкогнито, другие, напротив, склонны к литературному нарциссизму (которому, впрочем, не отказано в праве на существование) и к развёрнутой презентации своего творчества, по смыслу выходящей за пределы предложенной триады.
На вопросы писательской анкеты отвечает Алексей Алёхин, поэт (г. Москва). «Писательство – это вся жизнь».
Алёхин фактически утверждает, что история литературы неизбежно зиждется на преемственности поколений от Адама и Евы до их далёких потомков. Не упоминая непосредственно наших прародителей, Алёхин фактически ставит всё человечество в соответствие каждому человеку.
Среди созвучных ему писателей и поэтов прошлого Алёхин упоминает Олешу, Ильфа, позднего Катаева и раннего Вознесенского.
Ожидая от литературы общечеловеческой масштабности, Алёхин утверждает, что Серебряный век, начавшийся более столетия назад, длится до сих пор, и мы переживаем лишь различные его фазы, которые нужно глубоко чувствовать и точно угадывать, чтоб не впасть в фальшь…
Далее на вопросы анкеты отвечает Владимир Гандельсман, поэт, переводчик (г. Нью-Йорк). «Наследование – это вопрос вероисповедания».
Говоря о своём поэтическом кредо, о своём авторском имидже, Гандельсман использует (и охотно применяет к себе) рабочий термин «смысловик», исходно принадлежащий Мандельштаму. Поэтической миссии «смысловика» Гандельсман противопоставляет «Звезду бессмыслицы», которую связывает с Хармсом и Введенским, упоминая их в системе литературных оценок Друскина (коему и принадлежит парадоксальный термин).
Гандельсман косвенно затрагивает дилемму, стоящую перед всем человечеством: с одной стороны, логика – малый островок в мире сознания, с другой – полный отказ от логического смысла – это едва ли ни дорога в психиатрическую больницу. И Гандельсман вслед за Мандельштамом всё-таки остаётся «смысловиком».
Далее опубликован Шамиль Идиатуллин, прозаик (г. Москва). «Я рабочий на построенный ими фабрике».
Под «ними» в интервью Идиатуллина подразумеваются различные авторы и едва ли не в первую очередь братья Стругацкие. Объявляя себя их продолжателем (но не подражателем), Идиатуллин уходит от попыток однозначно утвердить себя в качестве чьего-либо «наследника» или оппонента, предоставляя суд читателю.
Далее на вопросы анкеты отвечает Алёна Каримова, поэт (г. Казань). «Главное – искренность».
Караимова противопоставляет русских поэтов, среди которых числит Цветкова, Бродского, Баратынского, татарским поэтам, к каковым относит Аглямова, Дэрдмэнта.
К мировым величинам Караимова относит прозаиков – Маркеса, Пруста, Исигуро.
При всей своей тенденции классифицировать поэтов, отводить им определённые этнокультурные ниши, критерием подлинности искусства Караимова считает не столько этнокультурную принадлежность, сколько искренность поэтов.
Затем на вопросы анкеты отвечает Бахыт Кенжеев, поэт (г. Нью-Йорк). «Когда читаешь какого-нибудь Овидия…».
Кенжеев утверждает, что знает цену классике – например, вышеупомянутому Овидию, но со временем устойчивые литературные традиции всё-таки нуждаются в радикальном обновлении.
Связывая его с сокровенным опытом сердца, явившимся не только из умных книг, но также из жизни (которая едва ли всегда логически взвешена), Кенжеев утверждает, что истинным собеседником поэта является не столько массовый читатель, сколько читатель, способный лично ценить поэта. По логике Кенжеева он носит едва ли не штучный характер. Массовую читательскую аудиторию Кенжеев ассоциативно связывает с суконной словесностью, с официозом в литературе. Ему противопоставляется поэзия и проза для немногих. Однако эти немногие находятся и оказываются в состоянии по достоинству оценить истинного поэта или писателя. Между автором и читателем всё же завязывается плодотворный внутренний диалог. «Так что все не так печально» – философически заключает Кенжеев (с. 246).
К числу писателей нестандартных, способных к личному откровению (и обретающих своего персонального ценителя – читателя) Кенжеев относит Владимира Сорокина, называя его «язвительным гением» (там же, с. 246). Статус литературного гения многого стоит!
Вслед за Кенжеевым высказывается Анна Козлова, прозаик (г. Москва). «Всегда важно одно – честность».
Козлова относится к числу тех авторов, которые фактически уклоняются от прямого ответа на поставленные вопросы. Она утверждает, что мир стремительно меняется, и писатель не является чьим-либо литературным наследником. Поэтому Козлова принципиально отрицает саму возможность лагерей и кланов в литературе.
Истинным критерием творчества она считает писательскую честность.
Далее выступает Алексей Сальников, поэт, прозаик (г. Екатеринбург). «Мне дорого, когда литература верит в людей, любит людей».
Сальников утверждает, что Чехов литературный гений, чуждый Сальникову по личным убеждениям. Сальников не уточняет, о какого рода убеждениях идёт речь. Остаётся предположить, что имеются в виду просветительские воззрения Чехова, опасно граничащие с атеизмом. В противоположность оным воззрениям Сальников позитивно упоминает путешествие Чехова на Сахалин и написанную им книгу «Остров Сахалин» едва ли не в качестве религиозного подвига.
Всё же будучи привержен к Чехову, Сальников считает, что литература должна быть антропной и должна изображать реальных современников писателя (а не каких-то логически абстрактных людей или представителей иных поколений). Не случайно говорят: мы способны полюбить лишь то, что мы хорошо знаем. Не на этой ли внутренней закономерности зиждется любой патриотизм? Человек любит края, в которых родился, а не какие-то неизвестные земли.
Далее выступает Дарья Селюкова, прозаик (г. Белгород). «Нас отличает желание принадлежности, иногда даже неосознанное».
Селюкова фактически уходит от прямого ответа на вопрос, чьей литературной наследницей она является. Более того, она фактически отрицает литературный процесс как таковой, оставляя право на существование едва ли не штучному читателю. Говоря о понимающем читателе как о человеке психически уникальном, Селюкова узнаваемо вторит Кенжееву и Сальникову, ориентированным на антропную литературу.
Однако несколько противореча себе, Дарья Селюкова утверждает, что с любовью изображая повседневную реальность, автор втайне стремится к чему-то большему. Ведь это большее неизбежно выходит за пределы частного жизненного опыта, который превозносит Селюкова.
Далее выступает Юрий Серебрянский, прозаик (г. Алма-Ата). «Важен «открытый код».
Вспоминая русскую литературу советского периода, Серебрянский зачисляет целый ряд авторов едва ли ни в разряд антисоветчиков. К означенной когорте Серебрянский относит Аксёнова, Битова, Сашу Соколова, Платонова, Рыбакова. Творчество означенных авторов наш современник относит к литературе «закрытого» типа, позитивно противопоставляя ей интернациональную – «открытую» – литературу (в данном случае кавычки не используются, но подразумеваются Серебрянским). К мировым классикам, писателям, работающим открыто и не замкнутым в какой-либо узкосоциальной нише, Серебрянский относит Фитцджеральда, которому и стремится подражать.
О назначении литературы и месте поэта в бытии высказывается также Ростислав Ярцев, филолог, поэт (г. Москва). «Я мыслю в контексте мировой культуры».
Ярцев утверждает, что высокая литература возникает благодаря экстремальным состояниям, которые способен пережить тот или иной автор.
Реальный жизненный опыт поэтов и писателей Ярцев противопоставляет ложной патетике и ходульной героике. Разумеется, она больше претендует на всеохватность, нежели всё то, что пережито автором лично.
Спору нет! И однако Ярцев немножко себе противоречит. «Ничто так не объединяет, как общее горе, общие утраты» – проницательно замечает Ярцев (с. 253). Далее он соотносит общее горе с мировым опытом, который и в самом деле трагичен. Однако причастность поэта к мировому опыту в его трагизме неизбежно подразумевает патетику и героику, на которую Ярцев вполне заслуженно ополчается. Всё-таки в смысловом центре «Дружбы народов» находится человек, а не какие-либо театральные химеры.
Одним из наиболее интересных литературных интервью в журнале является публикация Глеба Шульпякова. В «Дружбе народов» он обозначен как поэт, прозаик, переводчик (г. Москва). «Есть вектор, попытка заглянуть «за».
В противоположность футуристам, создавшим особый поэтический культ слова, Шульпяков утверждает, что слову как таковому предшествуют смыслы или даже философемы, известные человечеству с античной древности. Пусть и в образах (а не в понятиях) их использует мировая литература – считает Шульпяков.
Ни разу не повторяя коллег по литературному цеху, он молчаливо ставит (или затрагивает) интереснейшие вопросы.
Тенденция Шульпякова работать со смыслом как таковым (и во вторую очередь со словом) порождает вопрос о том, где проходит граница между художественным и философским произведением. В самом деле, остроумно и увлекательно поданный смысл есть признак художественной прозы, и в то же время, мы можем утверждать, что художественная литература есть завуалированная философия, поскольку она исходно имеет дело с отвлечёнными смыслами. «Ранний» Пушкин, описывая свою библиотеку в стихотворении «Городок», воспел Вольтера: «Эраты нежный друг, / Арьоста, Тасса внук – / Скажу ль?.. отец Кандида – / Он всё; везде велик / Единственный старик!».
Речь идёт, конечно же, о литературном детище Вольтера, о его философской повести «Кандид», где литературно увлекательно рассказано о превратностях и коловратностях человеческой судьбы. И теоретикам литературы пришлось бы немало попотеть, решая отнести Кандида к художественной литературе или к философии. А между тем, речь идёт не просто о навешивании терминологического ярлыка, но о радикальных различиях жанровых смыслов.
Вольтер, писатель, который пришёл в литературу из философии, и в обновлённом качестве художника занимается религиозной антропологией или философией человека. Ведь сама идея превратности судьбы подразумевает неслучайный, а значит религиозный смысл того, что происходит с человеком. Не сконцентрированная на слове как таковом литература о человеке тяготеет всё-таки к прозе – этому средоточию эпических характеров. С ними согласуются и взаимодействуют отчётливо антропные тенденции (или попросту признаки человечности), которые сопутствуют литературному кредо Сальникова и Селюковой, отечественных прозаиков. К литераторам, радеющем о человеке, в коллективной анкете журнала отчётливо примыкает и Кенжеев – поэт. Данный факт свидетельствует: Кенжеев – поэт, ориентированный на прозу не в смысле изображения предметов низменных или житейских, а в смысле интереса к человеку. Скажем более, человек в истории – это всё-таки эпический человек, тогда как лирике присуще изображения не столько характеров, сколько чувств, на которые способен человек. Глубочайший лирик Есенин некогда воспел «буйство глаз и половодье чувств», но не устроение эпических характеров.
Из коллективного интервью, опубликованного в «Дружбе народов», следует, что нынешняя эпоха по кругу своих ценностей и смыслов располагает к прозе. Случайно ли то, что художественная рубрика журнала поименована «Проза и поэзия» (первой следует всё-таки проза). Случайно ли также то, что на пять поэтических публикаций в восьмом выпуске журнала за минувший год приходится девять публикаций в прозе (публикаций прозы почти вдвое больше, нежели публикаций поэзии)? Всё сказанное не означает, что сегодня великий поэт невозможен – однако он возможен не благодаря, а вопреки нынешней эпохе. Во всяком случае, такова внутренняя логика журнала «Дружбы народов» и таковы редакционные критерии выбора литературных текстов для публикации в упомянутом журнале.
Итак, в августовском выпуске журнала за минувший год мы имеем дело с антропной литературой или с религиозной философией человека, облечённой отчасти в художественную форму. Там, где речь идёт о богословии человека, незримо присутствует явление Достоевского.
Так, в журнале опубликован рассказ Дмитрия Щедривого «Кружок экзистенциального воя». Сюжетная канва рассказа проста и загадочна. Как ни в чём не бывало, встречаются двое старых приятелей. Они выпивают, разговаривают, и вот за столом выясняется, что у одного из собеседников всё хорошо, но вопреки логике жить ему невыносимо.
Из парадоксального разговора друзей становится понятным, почему с одним из них происходят странные и несуразные вещи. Оглядываясь на прошлое, человек понимает, что счастье – это не есть совокупность благ. Вот у человека имеется всё необходимое, а ему плохо: счастье его осталось в прошлом, и ныне оно не может быть заменено никакими благами. Более того, герой рассказа давно расстался с женщиной, которая его тяготила, и получил долгожданную свободу. Однако и свобода его не слишком-то радует, поскольку его жизнь омрачена расставанием, пусть даже оно и пошло во благо персонажу рассказа.
В пунктирном соответствии с литературным интервью Гандельсмана, где вскользь упомянута «Звезда бессмыслицы» и контрастно дополняющее её амплуа поэта-«смысловика», рассказ Щедривого содержит свидетельство о человеке как о существе иррациональном, утопающем в цветистой бессмыслице, но хватающемся за соломинку смысла.
Антропному иррационализму Щедривого вторит публикация Александра Моцара «Два рассказа на тему». Вслед за Щедривым Моцар говорит о причудах человеческой природы. Рассказ Моцара «Лев Мясоедов» начинается более чем странно (с. 163):
«Мясоедов тупо огляделся – двор недостроенной церкви, стена шлакоблока и лай сторожевой дворняги. Грубо посмотрев на собаку, Лев испуганно подумал: «Вот если бы она меня укусила, тогда было бы можно ее убить». Собака спряталась в будку».
Далее фокус внимания Мясоедова отчётливо смещается вверх:
«Мясоедов не выдержал истошного напряжения и неожиданно злобно укусил сам себя за руку. Заскулив от боли и топнув ногой, он подумал: «Вот до чего религиозное мракобесие доводит». Мысль оборвалась равнодушием. Мясоедов потерянно прошел мимо пса к церковной калитке. Там он по привычке остановился, чтобы перекреститься на купола, но вспомнив о своем прозрении, вместо крестного знамени показал крестам дулю. Эта хамская демонстрация встревожила Мясоедова и, попытавшись осмыслить произошедшее, Лев спрятал кукиш в карман, но…».
Далее в повествование включается непосредственно автор и комментирует более чем экстравагантный жест Мясоедова:
«Стоп. Давайте остановимся на этом эпизоде. И прежде всего, разберёмся, кому показал кукиш Мясоедов. Итак, в его представлении это были не Создатель и не Церковь, которые он ощущал не как объект веры или отрицания, это было что-то иное, то, что…».
Перелистнув абзац, снова обратимся к литературному портрету Мясоедова:
«Что за идиотизм, – подумал Лев. – Как может в ничто быть что-то?». Итак, мысленному взору Льва является великое ничто или вселенский абсурд. В качестве некоего игралища тотальной бессмыслицы бедняга испытывает примерно то, что переживает герой повести Достоевского «Двойник». Герой Достоевского буквально раздваивается. Нечто подобное ощущает и персонаж Моцара, нашего современника. В нём неожиданно просыпается, с одной стороны, Лев, с другой – Мясоедов, который почему-то хочет ограбить Льва. И наконец, появляется некто третий – Лев Мясоедов.
Из рассказа выясняется и то, почему Мясоедов переживает такие странные метаморфозы и не находит себя. Мясоедов осознаёт, что человек является заложником физических процессов, например, он непременно умрёт, если не будет питаться. И человек обречён на поедание пищи, прозаическое занятие. Душа хочет устремиться ввысь. Но и высшее блаженство – замечает Мясоедов –мы подчас воспринимаем в гастрономических метафорах, говоря, например, о райских яблоках. Конкретно о них Мясоедов не упоминает, однако его заботит, например, то, что слово жратва является гротескно снижающим синонимом идеальной трапезы. Лев Мясоедов становится одержим метафизическим нигилизмом.
Его корень – проблема психофизического единства человека, над которой тщетно бились философы эпохи Просвещения – от Декарта до Канта. Идеальные порывы человека внешне выражаются в физических формах, материальных единицах. От них невозможно полностью абстрагировать идеальное начало, пока человек находится на земле. И в то же время, они ведут в экзистенциальный тупик… Его не смогла обойти и вся философия Просвещения.
Церковь учит и о нетварной (нематериальной) энергии, и о способности человека восходить от земного образа к идеальному первообразу. Однако персонажу Моцара это не удаётся. И он планомерно сходит с ума…
С рассказом Моцара «Лев Мясоедов» перекликается рассказ Анны Арнаутовой «Земля», также опубликованный в «Дружбе народов». Рассказ содержит, на первый взгляд, странный и парадоксальный фрагмент (с. 158):
«За время траурных хлопот в доме установился странный режим. Утром мама плачет, днём папа закрывается в комнате и стоит перед иконостасом с чёрным молитвенником. Она подозревает почему-то, что он не молится, а просто читает, – потому и не может плакать больше. Когда тебе очень плохо, бог редко говорит с тобой».
Смерть и страдание, казалось бы, уводят человека от житейских попечений и восхищают его в горние сферы. Однако – немо свидетельствует героиня рассказа – идеальные сущности мы постигаем в материальных формах. И когда мы иссякаем физически, нас оставляет бог – считает героиня рассказа. В самом деле, может ли человек постичь тайну собственной смертности? Может ли он смириться с самой неизбежностью смерти?
Примитивный атеизм сейчас не в моде – в мире происходит слишком много небывалого и фантастического, чтобы считать жизнь просто игрой случайностей или, как говорили марксисты, формой существования материи. Даже в советских учебниках по философии вульгарный материализм подвергался порицанию, и попутно в советских типографиях набирали книги философов-идеалистов, будь то Платон или Гегель. Однако и сама вера в Бога не всегда освобождает человека от мало разрешимых вопросов. Чтобы верить по-настоящему, нужно немалое мужество. О да, человек иной раз способен верить в Бога, но бояться смерти.
Рассказ Арнаутовой «Земля» отдалённо (и в то же время вполне дословно) перекликается с одноимённым рассказом Анатоля Франса. Воспевая материю в русле изящного французского вольномыслия, Франс исподволь свидетельствует и об идеальном происхождении человека. В самом деле, могло ли такое сложное, мыслящее (но, увы, телесное) существо, как человек явиться просто порождением обезьяны, напоминающей человека лишь внешне?
Но вернёмся к Моцару – его второй рассказ «Гипнотизёр», опубликованный в журнале, перекликается с опубликованным в том же журнале рассказом Щедривого «Кружок экзистенциального воя». Напомним, персонаж Щедривого, у которого в принципе всё есть, не находит себе места. Это происходит по многим причинам – в частности, с помощью своего собеседника герой Щедривого обнаруживает, что, если человек испытывает какие-либо желания, существует источник этих желаний. И тогда человек не свободен – он игралище и заложник неких космических стихий. Оказывается, что у человеческих желаний имеется нечеловеческий источник. Герой Щедривого бьётся над проклятыми вопросами свободы и несвободы.
Сходным образом проявляет себя и персонаж Моцара. Он ведёт себя в принципе естественно, но мыслит, живёт и движется под воздействием гипнотизёра.
«Два рассказа» Щедривого структурно похожи на другую публикацию журнала: Алексей Буров, Геннадий Прашкевич. «О собеседниках. Два письма на одну тему». Подобно тому, как рассказ Александра Моцара строится как тема с двумя вариациями, «Два письма» являют читателя два взгляда признанных гуманитариев на единую проблему – проблему межличностного диалога и обретения истины…
В русле русского мыслителя Михаила Бахтина, которого, впрочем, напрямую не упоминает, Буров говорит о том, что свойством, отличающим человека от животных, является язык (не стоит путать его с функциональными жестами и звуками животных, даже если эти звуки и жесты иногда смыслоразличительны; животные, как мы знаем, не занимаются словесным творчеством). Язык – считает Буров – является средством межличностного диалога, в котором нуждаются все – от жителей столицы до северных охотников.
Вторя Бурову и в то же время дополняя его, Прашкевич утверждает, что в условиях экзистенциального вакуума, проще, безверия в людском коллективе (почти стае) могут рождаться некие мировоззренческие фетиши – например, советские догмы. Принимая отчасти религиозную форму неких верований, по сути, они остаются порождениями безверия, тогда как истинная вера постоянна и тиха – замечает Прашкевич. Атеисты рубят с плеча, а истинно верующие безмолвствуют.
Пашкевич высказывается отчасти в русле постмодернизма, хоть и не употребляет означенного термина. Ведь именно постмодернизм занимается деконструкцией тех самых социальных мифов, которые Прашкевич связывает с мнимой религией, с инфернальной пародией на истинную веру.
Оба философских письма опубликованы в журнальной рубрике «Публицистика».
Как и другие произведения прозы, опубликованные в журнале, намеренную странность содержит и следующая литературно-художественная публикация: Владимир Гуга «В пяти шагах от дома», рассказы.
Первый из них, «Чернышевский отдыхает», посвящён девочке-инвалиду. В ней есть нечто трогательное и необъяснимое. Читателю является двуединое и непостижимое существо: девочка-старушка. Болезнь делает девочку страдальчески умудрённой и похожей на старушку. «На смерть осуждена, / Бедняжка клонится без ропота, без гнева» – по иному, но смежному поводу писал Пушкин.
Главный герой рассказа, журналист, который по непроверенным сведениям берёт интервью у самого Путина и самого Зюганова, немало впечатлён страданиями девочки. Журналист хочет ей помочь, но едва ли в этом вполне преуспевает.
Трогательная больная девочка противопоставляется в рассказе сильным мира сего.
В подборку прозы Гуги вошёл также короткий рассказ «Тысяча триста пятьдесят рублей».
Рассказ из подборки Гуги «В пяти шагах от дома» посвящён импозантной женщине, которая работает в магазине. Она сердечно увлекает главного героя рассказа: не то, чтобы он конкретно влюбился в упомянутую женщину и строил на неё планы, но незнакомка производит на него немалое впечатление, он пытается с ней заговорить.
Герой рассказа внушает ей, что такой великолепной женщине стоило бы работать не в магазине, а в ином, гораздо более престижном месте. Однако в ходе спонтанной беседы выясняется, что колоритная незнакомка одно время работала в «Росгвардии».
Герой рассказа остаётся в убеждении, что встреченной им красавице следовало бы работать в престижном европейском салоне, а не в диких местах. В результате главный герой рассказа едва ли не сходит с ума. Рассказ обрывается его необъяснимым припадком…
Четвертый рассказ Владимира Гуги, включённый в подборку его прозы, называется «Старик Бехштейн». Рассказ написан в стиле Сорокина, которого поэт Кенжеев в упомянутой выше журнальной публикации называл «язвительным гением».
Стариком в рассказе называется знаменитый рояль фирмы Бехштейн. Главный герой рассказа готов выкупить и вывезти этот рояль из консерватории, где некогда знаменитый рояль пылится без дела. На нём не играют. Видимо в консерватории хватает других инструментов.
Значит, у героя нет никаких препятствий к тому, чтобы выкупить и вывезти рояль из консерватории. Более того, покупатель предоставляет консерватории свою машину и своих рабочих. Рабочим консерватории не приходится лишний раз напрягать спину. И тем не менее, одного из рабочих консерватории что-то необъяснимо настораживает в простой, казалось бы, ситуации. Это нечто вертится ужом на сковородке подобно недотыкомке – инфернальному существу, описанному Сологубом в романе «Мелкий бес».
Покупатель медлит. Его собеседник – рабочий – мекает, но не может толком подобрать слова, чтобы выразить, что его беспокоит. Неожиданно выясняется, что рабочий консерватории не считает возможным списать работающий инструмент. Мысль внешне вполне логичная, но внутренне абсурдная. Во-первых, если рояль уже будет увезён из консерватории, кто и как докажет, что он работает? И главное, во-вторых, зачем роялю, пусть и вполне работающему, пылиться без пользы, когда есть заинтересованный покупатель? На рояле всё равно никто не играет – так зачем же его держать без дела на основании каких-то канцелярских фикций, административных гримас?
Однако рабочий, который продолжает бессмысленно мекать, окончательно выходит из себя и совершает нечто ужасное.
Соль рассказа заключается не в том, что куплю-продажу рояля так и не удалось совершить, а в том, что канцелярщина, присущая рабочему, приобрела характер маниакальной одержимости, обнаружила свою инфернальную природу. Что же всё-таки в итоге произошло со стариком Бехштейном? Об этом можно окончательно узнать, прочитав рассказ.
«Старику Бехштейну» по смыслу вторит рассказ «Старик на табуретке» – трагический рассказ о жизни и смерти, написанный с элементами литературного юродства едва ли не в стиле Хармса.
Тематически «Старику Бехштейну» соответствует рассказ Владимира Гуги «Музыкальный момент». Рассказ написан с житейским юмором, который контрастно указывает на трагическую ситуацию. Некоторая девушка была влюблена в музыканта, но отказалась от него, чтобы не портить ему карьеру. Во всяком случае, девушке казалось, что любовь воспрепятствует искусству, и она решила принести себя в жертву. Однако музыкант, в свою очередь, неровно дышал к ней, возможно, был готов поступиться искусством ради неё. И, увы, едва ли можно сказать, что она его осчастливила, принеся себя в жертву.
Рассказ трагический и в то же время имеющий форму житейского анекдота. В центре рассказа – некоторое трагическое недоразумение.
Подборка прозы Гуги содержит также рассказ «Побег из Кунсткамеры». В рассказе описывается странноватый (и внутренне уникальный) человек, в которого была платонически (исключительно платонически!), но безумно влюблена его родственница. В рассказе содержится литературная игра эроса и смерти.
Гендерная тема присутствует и в рассказе Дениса Банникова «Штучка». Своего рода эпиграфом к рассказу Банникова могла бы стать фривольно-шутливая максима Пушкина, русского классика: «Пленяйся и пленяй!». В данном случае эта максима может быть переадресована героине рассказа нашего современника – Банникова. Штучка – героиня одноимённого рассказа способна как испытывать, так и приносить эротически окрашенную боль. В рассказе она переживает таинственную встречу с собственным прошлым, которое и притягательно, и трагично. В конце рассказа (он намеренно эклектичен по сюжету) Штучка становится объектом активных домогательств некоего молодого человека. Здесь-то и происходит самое удивительное! Молодой человек формально добивается своего, но не чувствует повода торжествовать; напротив он ощущает скрытое фиаско. Молодой человек остро чувствует, что вызывает у Штучки физическое отвращение и главное, не увлекает её сердечно.
Банников воссоздаёт особую разновидность донжуана; внешний успех, переживаемый им на поприще амура, является внутренне позорным. А в эротически двусмысленном поведении Штучки присутствует изрядная доля коварства. В её активном взаимодействии с молодым человеком таится некий неизбежный подвох...
С гендерной темой в рубрике «Проза и поэзия» согласуется тема семьи и общества. Она присутствует в следующей публикации рубрики: Арам Пачян «Потому что он меня ждёт». С армянского. Перевод Л. Меликсетян. В публикации Пачяна описаны сложные противоречивые взаимоотношения сына с отцом. Отец подчас жёсток, сын и чурается отца, и одновременно устремляется к нему. Своего рода вакхическим символом означенной двойственности является водка, которую употребляет отец: водка субстанция жгучая, исполненная горечи, и одновременно жизнеутверждающая.
Стихия огня, горячая энергия, связанная с водкой, явлена армянским писателем Арамом Пачяном в формах ритмизованной прозы.
Говоря о водке, своего рода вакхическом атрибуте отца, Пачян обнаруживает склонность к этическому парадоксу. Он присутствует и в ранее упомянутом рассказе Моцара «Лев и Мясоедов». Моцар воссоздаёт странное размышление Льва Мясоедова (с. 165):
«Зло – это реакция на зло, неважно, настоящее оно или воображаемое. Важно то, что это противостоящая реакция первому злу. А противостоит ему добро, а значит, зло – это добро».
Трагически двуедина и водка у Пачяна: она и жжёт, и живит, и разрушает, и созидает. Мотиву употребления водки у Пачяна естественно поставить в соответствие русскую пословицу «Клин клином вышибают». Однако эта пословица по своей сути не означает, что добро есть зло, как ошибочно полагает персонаж Моцара, человек, который стремительно сходит сума. Просто строгий отец, подобно армии, о которой также говорится в публикации, и любит, и бьёт…
Наряду с затронутой Пачяном темой семьи в прозе «Дружбы народов» присутствует и тема войны и мира (в толстовском смысле). Показательна следующая публикация: Лидия Григорьева «Термитник. Роман в штрихах. Книга третья». Композиционно и сюжетно данное произведение, опубликованное в «Дружбе народов» выборочно, мало похоже на классический роман. Оно строится не в качестве единого сюжета, а в качестве своеобразного повествовательного калейдоскопа. Он складывается из коротких историй, взаимно не связанных причинно-следственным путём, но связанных единым смысловым полем. Малые нарративы в романе Григорьевой даже имеют свои собственные заголовки, подчёркивающие калейдоскопическую структуру романа. Так, в романе имеются краткие вставные новеллы: «Чужой чих», «Белый камень», «Камыш», «Коза», «Пилот», «Крыша», «Голубые банты», «Папка», «Братская любовь», «Доброволец», «Убежище». Особый интерес представляет новелла «Убежище». В ней рассказывается о том, как жена спасается от мужа собственника. Также в романе содержатся вставные новеллы «Кабанья тропа», «В степи», «Родня». Особый интерес представляет новелла «Родня». В ней описано, как человек (не только у нас в России) подчас вынужден брать новые кредиты для того, чтобы расплатиться ими по старым кредитам. Возникает своего рода порочный круг. В романе также имеются следующие краткие истории: «Ока-инвест», «Спасение», «Наёмники», «Монопасье». Особую ценность представляет новелла «Спасение»; в ней говорится о том, насколько таинство исповеди бывает трудным – не только для прихожанина, но и для священника. Согласно словам молитвы, он только свидетель исповеди. Но этот свидетель не является нейтральным – и он становится жертвой и заложником отрицательной энергии, которая исходит от грешника. Так, врач способен заразиться от опасного пациента… Однако доходя даже до смерти, священник спасает и спасается – заключает Григорьева.
Повествовательный фон романа (напоминаем, он опубликован фрагментарно) не равняется его тематическому полю. Если тематический спектр романа связывается с частной жизнью современного человека, то исторический фон романа связывается с войнами, которые когда-либо в мировой истории вело человечество. Автор неявно склоняется к мысли о том, что война, даже если она возникает вследствие исторической необходимости, в принципе является делом противоестественным. И если все люди – это потомки Адама и Евы, то на войне вынужденно истребляют друг друга фактически члены единой семьи – психически ненавязчиво внушает читателю Лидия Григорьева. Приведенные мысли содержатся, например, в её новеллах «Чужой чих», «Белый камень», «Пилот», «Крыша», «Голубые банты».
В романе Григорьевой на некоем эпически батальном фоне являются – и сгорают – человеческие жизни.
С темой войны и мира в текстовом корпусе журнала косвенно связывается тема государства и человека. Она присутствует в публикации Георгия Панкратова «Кризис первого курса. Петербургские студенческие рассказы». Цикл рассказов Панкратова в большей степени, нежели другие произведения прозы, публикуемой в журнале, затрагивает сферу подсознания. В прозе Панкратова косвенно выражается мысль о том, что существует прекрасный город Петербург. Он является одной из несомненных вершин отечественной культуры, и он же построен на костях. У Панкратова, как некогда у Чехова, за нормой угадывается аномалия.
В цикл Панкратова «Петербургские студенческие рассказы» вошли рассказы «Хорватия», «14. 02», «Летний сад», «Эпилог». Все четыре рассказа вписаны в единую смысловую канву, подобно тому, как вставные новеллы Григорьевой включены в единое смысловое поле.
Первое из произведений прозы, включённых в литературно-художественную рубрику журнала, – это роман Дмитрия Исакжанова «Проскинитарий». Произведение строится как роман-путешествие. Двое приятелей мечутся в огромном аэропорту евразийского типа и рискуют опоздать. Автор в подробностях описывает то, как они стремительно мчатся сквозь лабиринт аэропорта, панически отыскивая нужную дверь и нужный терминал. Ускоренное движение, показанное в мельчайших подробностях, своего рода замедленная съёмка, как бы наложенная на бег, создаёт в романе особый эффект странности, который, очевидно, входит в авторское намеренье.
Воссоздавая особый лабиринт Евразии (не только мир аэропорта в узком техническом смысле), Исакжанов соответствует тематическому профилю и смысловому контуру журналу «Дружба народов». Одна из сквозных тем журнала – взаимодействие различных этносов. В данном случае речь идёт и о взаимодействие различных типов цивилизации.
Проза журнала наследует традиции чеховского натурализма – традиции воссоздания частного человека в его психофизической конкретности. В отличие от прозы, ориентированной на эмпирическую конкретику жизни, лирика с её литературной условностью и отвлечённостью едва ли может быть натуралистической. Даже Фет с его устремлением к эмпирической конкретике лирически грезил тайной бытия и фактически был литературным учителем раннего Блока. Имя «Фет» Блок произносил с придыханием. Итак, поэзия журнала «Дружба народов» находится во взаимоотношениях контрапункта – и просто контраста – с художественной прозой журнала. Поэзия, публикуемая в «Дружбе народов» более иерархична, нежели проза, публикуемая там же. Природа поэтической отвлечённости располагает авторов отчётливо разграничивать верх и низ. Поэтому поэзия, публикуемая в журнале, в среднем серьёзней прозы, публикуемой там же.
В «Дружбе народов» опубликована подборка стихов Дмитрия Румянцева «На дне развоплощённых дней». Румянцев создаёт личностную космологию, в центре которой – волшебный сад, он же эстетический слепок рая, некогда утраченного человечеством. Воссоздавая сад – центр всего мироздания – Румянцев обращается к своему литературному предшественнику Аронзону – певцу заоблачных кущ, куда поэт Аронзон некогда ушёл, скитаясь в гористой местности.
В стихотворении «Мальчик», внутренне центральном для подборки, Румянцев пишет (с. 6):
один на свете
Намеренно избегая знаков препинания и намеренно выводя фамилию Аронзон со строчной буквы, Румянцев продолжает:
плоды
Перед Румянцевым стоит некоторая проблема: воссоздать поэтический космос Аронзона, эстетически обновив его и счастливо избежав эпигонства. Вслед за Аронзоном воссоздавая эстетический рай (или эстетическую модель прекрасного сада), Румянцев стремится показать, что юдоль поэта-скитальца – место не просто благостное, и высшее счастье по-своему нуждается в некоторой щербинке – а не только в гладкости. Не потому ли наш современник Румянцев избегает знаков препинания – создаёт намеренно негладкий стих?..
Поэтический поиск рая является одним из лейтмотивов поэзии Румянцева. Поэт пишет (с. 4):
мы свободой и мужеством платим за высокую душу свою.
С поэтическим архетипом рая у Румянцева опосредованно связывается элегическое время. В стихотворении «Фото» Румянцев пишет (с. 5):
на чёрно-белой фотографии мы всё ещё друг друга любим.
Жестокая необратимость времени в «Фото» контрастно взаимодействует с благородной статикой фото, которая способна по-своему остановить мгновенье. Поэт любовно описывает фотокарточку и словно обращается вспять – туда, где он и она пребывают нераздельно (там же, с.4):
и эта карточка случайная так греет дух, что мы – бессмертны.
Ускользающее мгновенье у Румянцева контрастно взаимодействует со статикой вечности. И вот что интересно!
Поэты «Дружбы народов» (и едва ли ни в первую очередь Дмитрий Румянцев!) вслед за прозаиками из того же журнала устремляется к частному бытию – пространству, фактически объединяющему поэзию или прозу. Однако там где прозаик, будь то Исакжанов или Арнаутова прибегают к эмпирической конкретности, поэт подобно крыловскому лебедю рвётся в облака и тяготеет к литературной отвлечённости.
Стремление создать отвлечённо лирическую кальку повседневности присутствует также в подборке Игоря Куницына «Личная вечность».
В стихах Куницына спорадически присутствует есенинская нота. Вслед за Есениным Куницын создаёт лирический автопортрет поэта, который внешне является алкоголиком, но внутренне устремляется ввысь (в противоположность людям внешне добропорядочным, но внутренне мёртвым). Поэт пишет (с. 124):
встретил я пьяного гения.
Этот гений является едва ли не поэтическим двойником самого Куницына. Автор продолжает:
и целовали растения.
Куницын не только перекликается с Есениным по смыслу, но и текстуально узнаваемо вторит Блоку, некогда сказавшему о себе как о поэте, не выходящем из некоего вечного запоя (упоения гармонией): «Я верю, то Бог меня снегом занёс / То вьюга меня целовала».
Однако в отличие даже от Румянцева, певца заоблачных высей, Куницын локализует свои идеальные прозрения в реальной жизненной обстановке. Она придаёт непреходящим ценностям жизненную достоверность (с. 125):
люди бросали в уазик.
У Куницына присутствует мотив расправы толпы над поэтом.
И там, где у Румянцева преобладает классическая обтекаемость, у Куницына присутствует творческая угловатость и даже вызывающая нота. Отчасти она проистекает от столкновения поэта с враждебным миром…
Поэт пишет (с. 125):
наблюдаемой нами вселенной.
Электрички и вселенная – суть контрастные полюса поэзии Куницына. Прорыв из повседневности ввысь, из тесной электрички в огромную вселенную – один из лейтмотивов поэзии Куницына.
В некоторых своих стихах он почти перифразирует Румянцева, но в отличие от Румянцева пишет стихи намеренно угловатым почерком (с. 126):
и плыву, держась за подоконник.
Водка для Куницына – это путь от прозы жизни к поэтическому блаженству (там же):
прошлое забытое навечно.
Куницын, возможно и не читавший Румянцева, практически перифразирует его. Румянцев, как мы помним, пишет о фото, где остановлено мгновенье прошлого, а Куницын поэтически воскрешает минувшее, в котором вечно существует некий сад – мотив, вновь напоминающий о поэзии Сергея Есенина.
Мы можем сколько угодно подвергать анафеме эпоху постмодернизма и даже упрекать в цинизме Сорокина, одного из провозвестников постмодернизма, но мы не можем не видеть проблему, которая подчас возникает и у талантливых поэтов: мир постмодернизма – это мир, где всё сказано. Можно ли, например, писать о вечном запое поэта после Блока и Есенина? Безусловно, можно, ибо истинному таланту многое позволено. К тому же запретить современным поэтам писать о том, о чём писали классики, это всё равно, что воспрепятствовать Румянцеву или Куницыну писать о любви, потому что на эту вечную тему ранее писал Пушкин. Утратив эпохальную преемственность, поэзия просто умрёт.
Но вот обрести свой неповторимый голос, свой индивидуальный лад в хоре поэтических голосов – эта задача, которая стоит перед нынешними поэтическими талантами. У современных прозаиков такой проблемы нет или она стоит не так остро, как у поэтов, современная проза в её ориентации на житейскую конкретику не наталкивается (или почти не наталкивается) на проблему штампа и его преодоления.
В рубрике «Проза и поэзия» опубликована также подборка стихов Веры Калмыковой «Собственной жизни важней».
Одно из центральных произведений подборки Калмыковой – это цикл «1937-й». Вслед за Ахматовой, некогда создавший «Реквием», Калмыкова оплакивает жертв сталинских репрессий. Она пишет (с. 87):
Господи, за что их всех убили.
Поэт прочит убиенным Царство небесное.
Помимо «1937-го», состоящего из 4-х частей, в подборку включено стихотворение Калмыковой, где говорится о психофизическом единстве человека, о явлении, описанном в прозе журнала – например, в прозе Арнаутовой или Моцара. Калмыкова разворачивает их темы на поэтический лад. Она пишет (с. 89):
не оставляет вины
Далее говорится о контрасте запросов тела и высших запросов человека:
зритель уже пообвык
В стихах Калмыковой обнаруживается перекличка с прозой Моцара – прежде всего, с его рассказом «Лев и Мясоедов». Как мы помним, героя Моцара смущает неуместная синонимия разговорного слова жратва и вечной трапезы. Современный прозаик, о коем идёт речь, не чужд инфернальному юмору, тогда как серьёз Калмыковой ведёт её от философского парадокса к простым антитезам, а между тем, едва ли не всякая антитеза в нашем сложном и запутанном мире несёт в себе неизбежную долю схематизма.
В рубрике «Проза и поэзия» напечатана также подборка стихов Игоря Малышева «Порядок и вселенский кавардак». Вслед за Румянцевым и Куницыным Малышев пишет о внутренних запросах человека. (И проза, и поэзия журнала в той или иной степени антропны).
Малышев пишет (с. 160):
Снегириная память.
Поэт остроумно варьирует взятую им щемящую ноту посредством анафоры (там же):
Журавлиная воля.
Возникает абсолютно неожиданная, но по-своему мотивированная параллель стихов нашего современника с классическим произведением русской литературы – со знаменитой пьесой Чехова «Вишнёвый сад». В пьесе имеется, как мы сегодня бы сказали, слоган: «Вся Россия – наш сад!». Работая не в области драматургии, а в сфере лирики, наш современник почти отождествляет родину и некую высшую юдоль.
Отточенный авторский почерк и точный дискурс (едва ли вполне типичный для современной поэзии) выдаёт в Малышеве человека точной науки: «Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии» – сообщает биографическая справка (с. 160).
И технические объекты – например, поезд – Малышев воссоздаёт как человек точного мышления; он пишет (с. 162):
Пусть дорожка зарастает.
Воссоздавая трагическую романтику езды в поезде или, быть может, пути в невозвратное, наш современник творчески интуитивно (а возможно, и вполне сознательно) занят преодолением штампа. «Тоска дорожная, железная», которая «Свистела, сердце разрывая» хорошо известна нам со времён Блока. Написать о вагонной тоске по-новому – задача не из простых. Малышев решает её посредством ухода от некоей сентиментальности (прощальные слёзы) в точный дискурс. Ему соответствует отказ поэта от рифмы – так называемый белый стих, в котором ясный смысл значит едва ли не больше, чем созвучие двух слов.
Завершает рубрику «Проза и поэзия» подборка стихов Александра Климова-Южина «Вспоминая лето».
Южин видит мир в элегических параметрах смены времён и вместе с тем преодолевает элегические штампы, воссоздавая пугающие причуды и непредсказуемые зигзаги седого Хроноса.
В стихотворении «Вспоминая лето», давшем название всей подборке, Южин пишет (с. 202):
На тлю в питомник роз.
Космический ужас нагнетается:
О нет, куда страшней…
Прибегая почти к книжному языку, Климов-Южин всё же несколько модернизирует его, чтобы показать современную актуальность античных мифологем – таких, как Веспер.
Поэт продолжает:
Его на чердаках.
Почти античный космос приобретает у Южина форму современной дачи.
Южин – поэт Хроноса. Метаморфозы времени воссозданы и в другом стихотворении Южина. Поэт пишет (с. 203):
Человек превращается в глину…
Вспоминаются «Метаморфозы» вечного Овидия и их поздняя перелицовка – «Метаморфозы» Заболоцкого. Перед нами отнюдь нетипичная форма элегического мышления.
Южин работает в элегическом дискурсе, по возможности избегая элегических штампов.
К рубрике «Проза и поэзия» примыкает ряд мемуарных и литературно-критических рубрик.
Так, в рубрике «Книжный развал» помещён ряд рецензий. Первая из них: Александр Мелихов: «Защита Попова». О книге: Валерий Попов. Любовь эпохи ковида: Повести. – С-Пб.: Лимбус-пресс, 2021.
Автор утверждает, что Попов в политическом смысле неподкупен и работает не на злобу дня, а для вечности.
Один из центральных смыслов творчества Попова – страдание человеческое. Малодушному уходу от страдания, приятному самообману Попов, по мысли рецензента, предпочитает умную эстетизацию страдания, которая способна принести утешение душе и наполнить её благородной горечью.
Попутно Мелихов отмечает, что Попов следует гоголевской традиции и подобно Гоголю эстетически смакует повествовательные подробности.
Следующая рецензия, помещённая в «Книжном развале»: Александр Климов-Южин: «Изобретение паруса». О книге: Галина Нерпина. «Остролист». – М.: Воймега, 2022.
Климов-Южин, опубликованный в восьмом выпуске «Дружбы» за прошлый год и в качестве поэта, выступает в данном случае как рецензент стихов Галины Нерпиной.
Он пишет о внутренней размеренности и гармонии стихов Нерпиной, о присущей Нерпиной доле стоицизма на фоне жизненных бедствий. Непосредственно термина стоицизм Южин не употребляет, но говорит о душевной стойкости поэта.
Климов-Южин проводит литературную параллель между Нерпиной и Цветаевой, некогда сказавшей: «Я счастлива жить образцово и просто…». Перед нами снова встаёт проблема литературных заимствований, которая угадывается и непосредственно в современных стихах, содержащих явные или скрытые цитаты из классиков и публикуемых в «Дружбе народов».
Письменное выступление Климова и в качестве поэта, и в качестве литературного критика свидетельствует о единой литературной мастерской, которая существует на страницах журнала.
Завершает рубрику «Книжный развал» следующая рецензия: Елена Севрюгина. «В ожидании крупной добычи». О книге: Александр Евсюков. Двенадцать сторон света. М.: Формаслов, 2021.
Севрюгина говорит о несколько парадоксальной этической коллизии в рассказе Евсюкова «Караим». Она пишет (с. 261): «главный герой рассказа «Караим» переживает глубокую личную трагедию. Его жена по вине доктора лишается долгожданного сына». Смыслом жизни героя, как утверждает Евсюкова, становится месть врачу-губителю. Однако увидев здорового улыбающегося сына врача, герой рассказа неожиданно оставляет план мести, не решаясь подвергнуть несчастью маленькое существо, едва родившееся в мир.
Переходя от героя к автору, Севрюгина выявляет авторское кредо Евсюкова. По мысли рецензента оно несколько парадоксально: писателю должны быть присущи одновременно смирение и здоровые амбиции.
В рубрике «Литературный барометр» опубликовано литературно-критическое эссе Евгения Абдуллаева «Фрагменты речи поэта». Критик высказывает небесспорную, но увлекательную мысль, что истинные стихи – это всегда, в какой-то степени, стихи о стихах.
Очевидно, Абдуллаев имеет в виду, прежде всего, не цитатную поэзию (так называемый центон), а поэзию, которая себе имманентна и свободна от общественных или иных спекуляций. Не потому ли, едва ли не противореча себе, Абдуллаев мимоходом утверждает, что поэзия больше стихов (об этом в эссе Абдуллаева говорится на примере творчества Кальпиди)?
Излагая кредо современного поэта Амелина, Абдуллаев замечает, что при всей феноменальной начитанности Амелина, искусство слова – это скорее личное, нежели общее дело.
Излагая творческие принципы современного поэта Таврова, Абдуллаев пишет о способности Таврова не активничать, но терпеливо вслушиваться и вглядываться в нескончаемый поток бытия. Абдуллаев говорит о вселенской отзывчивости Таврова, а значит, всё-таки о доле пассивности и созерцательности в поэзии Таврова, хотя мы знаем, и сам Достоевский говорил о всемирной отзывчивости Пушкина, что нашему современнику не может не польстить.
В рубрике «Правила игры» опубликовано литературно-критическое эссе Бориса Минаева «Берегите ваши лица». Минаев противопоставляет советского классика Вознесенского литературным хулиганам восьмидесятникам и задаётся риторическим вопросом о том, что может быть между ними общего. Литературные ёрники доламывают имперский монолит (который и так изрядно затрещал в 80-е), а Вознесенский следует своим достойным путём и не разменивается на злобу дня.
И всё же, – отмечает Минаев, – всё же Вознесенский, как и литературные гопники противостоял советскому официозу. Однако если литературные горлопаны 80-ых были не чужды некоего общественного нигилизма (всё разрушим!), то Вознесенский мудро противостоял советской номенклатуре из истинных глубин народной стихии – считает Минаев.
Творчески симптоматично, что в заметке Минаева фигурирует именно Вознесенский, а скажем, не дореволюционной классик. Установка журнала, в той мере, в каком мы можем её реконструировать, – являть читателю литературу классическую и в то же время – остро актуальную сегодня.
Наряду с литературно-критическими публикациями в журнале имеется мемуарная публикация: Лидия Чистякова «Мне посчастливилось…» Публикация и вступительная заметка Леонида Дунаевского.
В своих увлекательных мемуарах Чистякова рассказывает о своём опыте межсословного брака на фоне наступающей революции, а затем – и наступившей советской эпохи.
Более чем сложные взаимоотношения супругов на трагическом фоне истории определяют настолько же трудный, насколько и увлекательный для читателя характер публикации.
В центре смыслового поля журнала – человек, каким он является со времён Адама и Евы. Человечество предстаёт в журнале как единая семья, у которой имеются свои радости и свои проблемы. Их успешное решение, по логике журнала, возможно в условиях межэтнического диалога и культурного обмена между странами. Параллельно публикации журнала свидетельствует о болезнях человечества – прежде всего, о богооставленности нашего мира. Величие вселенной, воспетое просветителем Ломоносовым, располагает человека поверить в Бога, но с ходом веков выясняется, что этого мало. Как говаривал один православный старец, надобно не только верить в Бога, но и верить Богу – а это архитрудно – вот о чём свидетельствуют многочисленные публикации журнала. Сложные вопросы богословия человека ставятся на страницах «Дружбы народов» в эпических параметрах прозы. Видно, что она востребована редколлегией журнала. Проза выступает в «Дружбе народов» как мир смыслов, а поэзия как мир слов.
И всё же поэзия, публикуемая в «Дружбе народов», не отстаёт от прозы, возводя чаянья человека и человечества на должную иерархическую высоту. Однако именно поэтому поэтов «Дружбы» преследует опасность литературных штампов и высоких банальностей. Их успешное преодоление, по логике журнала, возникает там, где поэзия подобно психологической прозе проникновенна и свободна от фальши, по-человечески неподдельна. Поэтому поэзия и проза в журнале «Дружба народов» принадлежат к единому и множественному полю словесности.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети