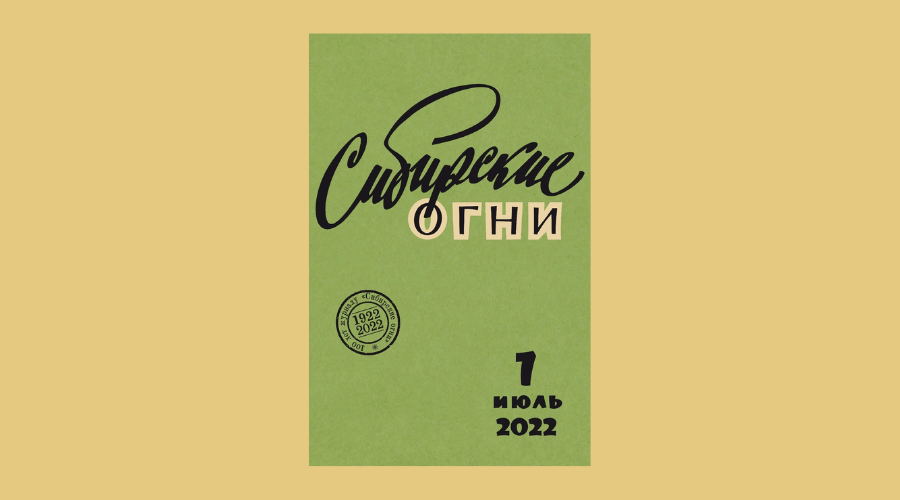«Сибирские огни» № 7, 2022
Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Сибирские огни» издается в Новосибирске с 1922 года. Выходит 12 раз в год. Тираж 1500 экз. Творческая судьба многих деятелей российской литературы была прочно связана с «Сибирскими огнями».
Главный редактор - М. Н. Щукин, Владимир Титов (ответственный секретарь), Михаил Косарев (начальник отдела художественной литературы), Марина Акимова (редактор отдела художественной литературы), Лариса Подистова (редактор отдела художественной литературы), Елена Богданова (редактор отдела общественно-политической жизни), Т. Л. Седлецкая (корректура), О. Н. Вялкова (верстка), редакционная коллегия: Н. М. Ахпашева (Абакан), А. Г. Байбородин (Иркутск), П. В. Басинский (Москва), А. В. Кирилин (Барнаул), В. М. Костин (Томск), А. К. Лаптев (Иркутск), Г. М. Прашкевич (Новосибирск), Р. В. Сенчин (Екатеринбург), М. А. Тарковский (Красноярск), А. Н. Тимофеев (Москва), М. В. Хлебников (Новосибирск), А. Б. Шалин (Новосибирск).
«Привычки милой старины…». Сибирь – хранительница отечественной истории
«Сибирские огни» – литературно-художественный и научно-публицистический журнал, наделённый академическим статусом. Концепция «Сибирских огней» как периодического издания носит двуединый характер: с одной стороны, название журнала подразумевает, что непреходящие ценности сосредоточены в русской глубинке (а не в суете двух столиц), с другой же стороны, огни – есть эмблема русского просвещения в Сибири и почти визуальное свидетельство её приобщения к русской классике. Речь идёт не столько о том, что в «Сибирских огнях» печатаются классические тексты, сколько о том, что современные тексты современных авторов всё же подчинены классическим критериям, ориентированы на признанные литературные образцы.
Основные темы 7-го выпуска «Сибирских огней» за 2022 год: советское прошлое (Вячеслав Игрунов «Хроники долгого детства» и др.), семья и социум (Елена Басалаева «Цыганская дочь» и др.), правда и ложь (Евгений Городецкий «С печалью и гневом» и др.).
Основные публикации 7-го выпуска «Сибирских огней» за 2022 год: Роман Костицын «Мы странно встретились» (повесть), Елена Басалаева «Цыганская дочь» (рассказ), Алексей Ивантер «От Воронежа до Тамани» (стихи), Денис Попов «Дождь в кастрюле» (стихи), Евгений Городецкий «С печалью и гневом» (литературные мемуары), Константин Васильев «Исключение опровергает правило» (статья).
Проза журнала существует в особом знаковом поле, пролегающем между художественным и документальным типами повествования. Художественный вымысел в прозе, публикуемой на страницах журнала, нередко зиждется на исторической почве, а исторический фон повестей и рассказов, публикуемых в «Сибирских огнях», в свою очередь испытывает на себе воздействие художественного вымысла.
Повесть Романа Костицына «Мы странно встретились» построена по законам психологической прозы, которая зиждется в глубинах «первичной» реальности. Название повести творчески симптоматично и показательно по смыслу. В повести психологически остроумно показано, как молодой человек женится под влиянием целого множества социально-психологических факторов, но в глубине души осознаёт, что совершает ошибку, поскольку связывает свою судьбу с легкомысленной особой, которая жаждет его заполучить и использовать для своих целей. Не дремлет и вся семейка невесты, которая, в свою очередь, стремится выгодно выдать дочь замуж (молодой человек наделён высоким социальным статусом и финансовым достатком). Главный герой повести – человек отнюдь не безвольный (тем более что он работает в военной сфере). Но при всём при том он фактически пасует перед целым каскадом обстоятельств, буквально толкающих его вступить в брак. Автор повести проницательно показывает, что семья – это социальная институция, поэтому даже военный, человек сильной воли, едва ли может уклониться от брака, если его совершению способствуют налаженные социальные механизмы. Такова извечная трагикомедия брака, который со старых патриархальных времён является едва ли не двусмысленной принадлежностью человечества: с одной стороны, брак зиждется на сердечных началах, а с другой – он же наделён социально-родовыми признаками, нередко противостоящими интимно-сокровенному зову человеческого сердца. И конкретно для молодого человека, героя повести, – пренебречь браком как общественным установлением – фактически значит выпрыгнуть из социума (что для военного смерти подобно).
Автор говорит не о безусловной вине, а о некоей ошибке молодого человека… Между тем, заключённый им брак не имеет обратного хода. Действие повести происходит в советские времена, и разведённым военным (по законам изображаемых в повести времён) недоступны некоторые социальные льготы. Вообще разведённый военный считается по советским нормам человеком социально неполноценным и даже подозрительным (в отличие от человека просто холостого). Рассуждения женатого молодого человека о том, чем бы ему грозил развод, наводят на мысль о том, что советская власть несколько парадоксально содержала религиозные рудименты. В самом деле, если с октября 1917 года Россия стала советской, но не прекратила являться Россией, по-своему логично, что Советская Россия стихийно содержала религиозные рудименты – например, представление о святости брака, восходящее к четырём известным каноническим Евангелиям. Иное дело, что вера – вопрос сокровенно сердечный, и решать его в административных параметрах едва ли вполне адекватно. Однако и до революции россияне были вынуждены в церковно-приходских журналах ставить галочки о том, что они исповедовались и причащались. История повторяется…
Меж тем повесть получает как сюжетное, так и психологическое (а точнее – сердечное) развитие. Женская мудрость и в то же время житейский алогизм супруги главного героя побуждает её чрезмерно не удерживать мужа при себе (несмотря даже на то, что в семье успел родиться ребёнок). Сложная совокупность сердечных и социальных факторов толкает жену главного героя на сложное компромиссное решение: муж работает и фактически живёт в Прибалтике, а жена с ребёнком остаётся в Москве. Причудливая логика жены военного заключается, очевидно, в том, что на спасительном расстоянии между ним и ею не будут обостряться сердечные противоречия между мужем и женой. Дистанция между им и ею способна по-своему сбалансировать их не вполне гармоничные отношения. И даже получив возможность переехать к мужу на жительство в Прибалтику, жена туда не торопится. Она остаётся в Москве несмотря на то, что не может не подозревать увлечений мужа на стороне – и всё же для неё находиться на дистанции безопасней, чем терпеть семейные раздоры (которые неизбежно последовали бы, если б он и она жили вместе). Жена едва ли не сама толкает мужа на измены ради сохранения семьи как социальной институции, успешно прикрывающей альковные дела. Герой повести по натуре далеко не донжуан, но обстоятельства побуждают его вести себя двусмысленно, сохраняя благополучную видимость семьи. Считается, что человек женат – и порядок.
Такое состояние по-своему выгодно и мужу – хотя сердечно он страдает от неопределённости и двусмысленности.
В повести нашего современника Романа Костицына угадываются художественные принципы классика литературы минувшего века – Сергея Довлатова. У Довлатова, как мы знаем, многое зиждется на колоритном случае, на житейском анекдоте… В сходном ключе работает Костицын. У него чуть ли не решающую роль способна играть и случайность (а не только случай). Герой повествователь, по роду деятельности военный переводчик, вспоминает об условиях своей работы до Прибалтики (с. 6): «В первый же день захотелось чайку попить. Неспешно, по-курсантски. Расходный материал имеется, но нужен чайник. Решил я пройтись по соседним кабинетам, раздобыть. Искал недолго. Рядом, в японской редакции, чайник был выдан мне во временное пользование сотрудницей этой редакции Татьяной. Моей будущей женой. А пил бы меньше чаю, жизнь сложилась бы совсем по-другому».
У нашего современника присутствует довлатовский ситуативный юмор, по своим истокам, быть может, связанный с литературным смехом американского классика О’Генри. Однако если Довлатов, долгое время живший в Америке, известен как писатель-антисоветчик (пусть и весьма умеренный), то наш современник, напротив, склонен к ностальгии по советскому периоду жизни страны. Так, например, Костицын показывает, что в стране Советов было едва ли не лучшее в мире образование, и военных переводчиков готовили по-настоящему квалифицированные специалисты. Однако советский исторический фон действия повести всё же не наделён у Костицына неким самодовлеющим характером. Советский материал способствует выявлению и конкретизации общечеловеческих смыслов повести – они связываются с браком как институцией, которая существовала задолго до Советов.
Если повесть Костицына являет собой художественное произведение, построенное на историческом материале, то мемуарный очерк Евгения Городецкого «С печалью и гневом. Памяти В.П. Астафьева» являет собой документальное произведение, неожиданно обращающее читателя к художественным ценностям (поскольку герой Городецкого – знаменитый писатель).
Автор очерка был лично знаком с Астафьевым, состоял с ним в переписке и оставил читателю уникальные свидетельства о нём. Городецкий написал (с. 126): «Виктор Петрович говорил, что думал. Этим-то он и покорил тех, кто с ним водился: всегда и везде при любых обстоятельствах оставался самим собой, тем Астафьевым, которого мы знаем и любим – в разговорах, в помыслах, в прозе своей. А ведь иной как: говорит одно, пишет другое, и бог знает, что у него на уме, потому что не веришь ни тому, ни другому».
К сказанному хочется добавить, что художественный вымысел, которым занимался Астафьев, в принципе не всегда располагает к суровой правде, поскольку литература эстетически преобразует действительность, наводняя её пленительными фантазиями. «Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман» – провозглашает один из лирических персонажей Пушкина.
Меж тем, Астафьев, по наблюдениям Городецкого, сочетает незаурядный писательский талант с безусловной правдивостью. В античной культуре такое сочетание красоты и добродетели именовалось калогатией (т.е. сочетанием нравственного и эстетического совершенства).
Устремление Астафьева к правде – и в то же время литературный талант, – всё это Городецкий иллюстрирует ярким историческим анекдотом, относящимся к советскому периоду истории страны. Астафьева как литературную знаменитость приглашают на встречу с читателями в Томск. Согласно нравам и обычаям того времени к великому писателю приставлен идеологический работник, которому поручено следить за тем, чтобы выступление Астафьева не содержало и тени антисоветчины. Астафьев вроде бы пообещал партийному функционеру, что будет на своём выступлении идеологически причёсанным. Однако непосредственно в беседе со своими читателями (и почитателями) писатель неожиданно позволил себе ряд граждански смелых высказываний. В частности, когда Астафьева попросили назвать имена великих писателей современности, тот указал Маркеса и Солженицына.
Эти имена показательны не только в смысле литературных оценок, которые Астафьев способен адресовать коллегам по литературному цеху, но также и в иных смыслах. Упоминание Астафьевым европейского писателя Маркеса свидетельствует о том, что приверженность так называемых писателей- деревенщиков (включая, разумеется, Астафьева) к отечественной глубинке отнюдь не означает их эстетической глухоты к знаменательным явлениям литературного Запада. Творчески симптоматично, например, то, что патриот и деревенщик Астафьев, явился автором рассказа «Уроки французского». Отчётливо позитивное упоминание Астафьевым Солженицына косвенно свидетельствует о том, что Астафьев признаёт классика отечественной лагерной прозы литературным предтечей так называемых деревенщиков – певцов отечественной глубинки (к кругу которых закономерно принадлежит и сам Астафьев).
После выступления Астафьева не последовало общественного скандала: очевидно мудрое руководство в Томске не сочло уместным его раздувать, тем самым привлекая излишнее общественное внимание к опасным суждениям литературной знаменитости. Напротив, Астафьева с почётом принял лично у себя дома тогдашний партийный титан Егор Лигачёв, ни словом не упомянув об идеологически не выдержанном публичном выступлении Астафьева. Данный прецедент указывает на то, что крупные партийные деятели советских лет были отнюдь не лишены ума, юмора и артистизма, а потому были способны прощать литературным знаменитостям идеологическую строптивость за литературный талант.
Итак, Астафьев (благодаря своей литературной известности) вышел сухим из воды, а вот мелкому партийному функционеру, который допустил несколько скандальное выступление Астафьева, впоследствии досталось на орехи от крупного партийного начальства. Однако бедняга чудом усидел на своей должности, отделавшись строгачом (так на советском сленге именовался строгий выговор). Неприятности, которые постигли идеологического работника, на время утратившего бдительность (и/или искусно обойдённого Астафьевым), указывают на долю этической двусмысленности в вышеозначенной скандальной ситуации. При своих благих намерениях, Астафьев, которому де факто ничего не грозило, невольно накликал неприятности на другого человека (что, разумеется, было спровоцировано не самим Астафьевым, а спецификой партийно-административного аппарата советских лет).
В 7-ом выпуске «Сибирских огней» за минувший год содержится ещё одно явление мемуарной прозы о сравнительно недавнем советском прошлом – публикация Вячеслава Игрунова «Хроники долгого детства». (Публикацию сопровождает редакционная помета: «Окончание следует»).
Как указано в биографической справке, Игрунов в советский период был диссидентом, а в постсоветский период вступил в политическую партию «Яблоко», однако впоследствии размежевался с главой «Яблока» Григорием Явлинским.
Мемуары Игрунова содержат выразительные картины послевоенного коммунального быта. Игрунов не приукрашивает действительность и не героизирует себя. Например, он пишет, что ребёнком был способен иногда солгать для собственной безопасности (при раскрытии «нежелательной» правды мальчику угрожал отцовский ремень). Однако человеческие слабости и огрехи Игрунов воссоздаёт в свете чистого нравственного идеала (до которого реальная жизнь так часто не дотягивает!).
В отличие от мемуарной прозы журнала публикуемая в «Сибирских огнях» художественная проза (при своём натурализме и ориентации на факты истории) нередко содержит иносказание, заимствованное из поэтического или песенного ряда. Название повести Костицына «Мы странно встретились» дословно повторяет строку известного романса (слова Тимофеева, музыка Прозоровского). Как известно, романс – литературный жанр, требующий ясного сюжета и ясной мысли. В произведении Костицына она фокусирует на себе всю эмпирическую множественность повествовательных реалий. Аналогичным путём поэтика названия фигурирует в рассказе Елены Басалаевой «Цыганская дочь». Название рассказа фактически заимствовано из романса Петрова «А цыган идёт», написанного на слова Киплинга. Однако Басалаевой подобно Костицыну отнюдь не чужда поэтика натурализма, и о верховном значении цыганского начала в рассказе читатель узнаёт исподволь: оное значение вырисовывается из круга сюжетных единиц и повествовательных подробностей, часто не имеющих отношения к цыганам.
В рассказе описываются непростые будни современной семьи; он и она для поддержания семьи вынуждены зарабатывать на хлеб. Причём непростой путь, которым людям даются деньги (если это деньги не украденные), в рассказе иллюстрирует немалый крест семьи. О финансовых проблемах героев рассказа говорится не в отрыве от контекста семьи. Он и она подобно Адаму и Еве, изгнанным из Эдема, вынуждены неустанно трудиться и добывать хлеб в поте лица своего.
Рассказ изобилует убедительными (и неординарными) психологическими деталями, например, свекровь способствует устройству невестки на работу, даёт ей ценные советы; и эти хлопоты свекрови, направленные, казалось бы, на благо невестки, её внутренне обижают. Такая психологическая поддержка, которая способна унизить человека, – явление жизненно узнаваемое, и даже не надо объяснять, почему невестка внутренне съёживается вместо того, чтобы громко радоваться, кланяться и благодарить. Всё же в словах свекрови – таких, казалось бы, оптимистических, – имеется и свой негативный подтекст: де без советов свекрови невестка, которая сама почему-то не в состоянии найти себе работу, окончательно пропала бы.
Вообще едва ли не всякая благотворительность весьма двусмысленна. Она поневоле несёт в себе намёк на то, что её объект исходно неполноценен и потому должен быть срочно облагодетельствован.
Для того чтобы устроиться на работу, невестка вынуждена пройти непростое собеседование, в воспроизведении которого автор обнаруживает невероятное сюжетное мастерство (и одновременно – мастерство организации диалога). Подчас непредсказуемые перепады настроений работодателя, от которых зависит ближайшая судьба героини, показаны психологически убедительно.
Он и она не являются людьми так называемых интеллигентных профессий. Она занимает весьма скромную должность в детском саду, куда с немалым трудом устраивается, а он – простой шоферюга. В рассказе с редким художественным остроумием показано, как, казалось бы, простая и востребованная профессия водителя (в силу ряда причин, о которых можно узнать, прочитав рассказ) не является для конкретного водителя психофизически комфортной, и на работе он ужасно устаёт.
Весь этот клубок разнообразных трудностей, которые он и она испытывают на рабочих местах (а подчас и в поисках рабочего места), по-своему определяет жизнь бедной семьи. Печальный курьёз заключается в том, что от денег, меркантильной материи, зависит счастье семьи – величина, в принципе не измеримая деньгами.
И вот в условиях всеобщей зависимости от денег в рассказе появляется этническая цыганка Люба, которая способна сделать широкий жест – например, купить себе роскошное платье или кольца. Всё это приобретается на деньги, которые цыганке ничего не стоит занять у доверчивых знакомых. А вот возвращать деньги кредиторам Люба едва ли в состоянии…
Люба не просто ставит ближних в неловкое положение – она их подводит в ответственных делах. Так, у главной героини рассказа умирает отец, и на организацию похорон нужны как раз те деньги, которые заняла легкомысленная цыганка (сумма сравнительно небольшая, но решающая). Один из персонажей повести даже замечает, что отец умер не вовремя – как раз тогда, когда не хватает денег на то, чтобы его толком похоронить.
Примиряется ли Люба с другими персонажами рассказа (а заодно и с читателями), находится ли Любе высшее оправдание, можно узнать, прочитав произведение.
В отличие от других произведений прозы, публикуемых в «Сибирских огнях», рассказ Басалаевой написан на современном материале. Многие другие произведения прозы журнала (как художественные, так и документальные) написаны на советском материале. В советский период, как мы знаем, считалось релевантным различие рабоче-крестьянского блока и творческой интеллигенции или учёных, занятых в области инженерии и точных наук. Поэтому автобиографическая проза в журнале, написанная о советском прошлом, в немалой степени является прозой творческих людей о творческих людях – например, писатель Городецкий повествует о писателе Астафьеве, и даже Костицын – человек военный, пишет об окружавших его профессиональных переводчиках – т.е. о гуманитариях. Игрунов повествует о своём семейном окружении – опять же об интеллигентной среде. И лишь наша современница Басалаева пишет о людях, которых можно назвать неинтеллигентными и нетворческими, хотя, разумеется, эти определения не стоит превращать в ярлыки. Конечно, и бытовые функции человека можно рассматривать как творчество. Тем не менее, Басалаева пишет о той социальной среде, к которой не принадлежит, – и тем самым избегает литературного нарциссизма или, проще говоря, некоего самовоспроизведения. Впрочем, слово нарциссизм здесь употребляется не оценочно: просто автор может смотреться в некоторое литературное зеркало, заново открывать себя, а может писать принципиально не о себе и не о своём социальном окружении. Выразимся ещё проще: писатель вправе создавать литературный автопортрет на фоне своей эпохи и своего окружения или, напротив, изображать не-писателей. Нетрудно, однако, заметить, что первый путь – это до известной степени путь создания литературы о литературе; вот почему особо интересен второй путь, на котором литератор изображает не-литераторов. В особой степени многогранен тот писатель, который будучи существом эстетически развитым, эстетически искушённым, изображает явления внеэстетические.
Наряду с рассказом Басалаевой «Цыганская дочь» в журнальную рубрику «Проза» включён рассказ Сергея Баранова «Маски», написанный на постсоветском материале. Несмотря на то, что понятие творческой интеллигенции сейчас является несколько архаичным (ретроспективно советским), один из главных героев рассказа – человек творческой профессии. Он художник, который занимается в частности изготовлением масок к празднику Хэллоуин. С этим праздником традиционно связывается ночной карнавал, участники которого намеренно надевают на себя инфернальные маски.
Двое – отец и сын – являются к художнику поглазеть на маски и посидеть за праздничным столом. В широком иносказательном смысле встреча отца и сына с художником – это творческий праздник. Творчески неслучайно, что на него фактически не допускается жена друга художника, она же – мама любознательного мальчика. Пиршественная свобода искусства возникает там, где отец мальчика временно освобождается от семейственных обязанностей. Кроме того, творчество – занятие неженское. Как существо эстетическое женщина является скорее объектом, нежели субъектом искусства. Может ли творить, например, прекрасный цветок? Скорее его отобразит художник, который сам цветком не является. И вот перед читателем является некий храм искусства, ума и свободы, куда не вхожа нормальная замужняя женщина-домохозяйка. Тайнами искусства владеют лишь мужские личности – художник и его друзья.
Однако творческий беспорядок, который беспрерывно царит в мастерской художника, вне женского присутствия неизбежно переходит просто в свинарник, где невозможно находиться. Читатель, судите сами: во что может превратиться жилое помещение, где буквально годами не выносят мусор (поскольку художник посвящает себя иным, более высоким занятиям)? Сын с отцом, упоённые интересными беседами с художником, вынуждены сделать над собой усилие и фактически сбежать из творческой мастерской, чтобы спасти семью и не пропасть в аномальной обстановке…
Рассказ Баранова возвращает нас к проблеме семьи, которая ставится в публикациях Костицына и Басалаевой. В «Масках» Баранова показан (или скорее не показан, а намечен) спасительный жизненный участок, на котором семья не разрушает творчество, а творчество не превращается в угрозу для семьи. Отец и сын пытаются удачно проскользнуть между вечными Сциллой и Харибдой.
Рассказ содержит и узнаваемую политическую аллюзию. Одна из тех инфернальных масок, которые мальчик наблюдает в мастерской художника, являет собой шаржированный портрет Ельцина. Однако мысль автора о былом правителе России как о карнавальном чудовище несколько скомкана. К тому же она факультативна по отношению к теме семьи и творчества, которая в рассказе доминирует и не требует некоего обязательного политического сопровождения.
Если художественная проза журнала ориентирована на поэзию, то поэзия «Сибирских огней» ориентирована на прозу. Как уже отмечалось, проза журнала строится в традициях чеховского натурализма, немыслимого в лирике. Лирическая стихия в «Сибирских огнях» связывается не с самой натуралистической прозой, а с её иносказательными смыслами – например, с синтетическими представлениями о семейном долге и свободе, знакомыми нам по рассказу Баранова «Маски». (Непосредственно темой упомянутого рассказа является мусор в мастерской художника, где начисто аннулирован нормальный быт и где не работает даже уборная). Разумеется, с лирикой связывается то, что витает над повествованием у Баранова и у других прозаиков-натуралистов, которые публикуются в «Сибирских огнях». Поэзия журнала, в свою очередь, заимствует у прозы «Сибирских огней» принцип историзма. И если в прозе журнала история существует как стандартный фон жизнедеятельности человека, то в лирике «Сибирских огней» эпическая тема – например, тема Родины – осмысляется сердечно сокровенно.
Так, тема Родины доминирует в подборке Алексея Ивантера «От Воронежа до Тамани». Поэт-патриот пишет (с. 78):
В придорожных кафе и пельменных, на заправках и возле мостов часовых не разводят бессменных из полков разведенок и вдов. Сорок лет колешу по России; это внучки уже плечевых: Зинаиды и Анастасии начеку на постах боевых. Ни войны вроде нет, ни разрухи, а посмотришь – войною война: медяки подбирают старухи, косяки забивает шпана.
Показательна авторская строфика. Поэт прибегает к излюбленному размеру поэта-демократа Некрасова, к классическому анапесту, но избегает традиционного деления силлабо-тонических стихов на строки и строфы. Говоря условно и упрощённо, Ивантер записывает стихи прозой, в результате чего они не перестают являться стихами. Однако будучи введены в эпическую рамку прозаизированного повествования, стихи звучат по-особому. Автор являет читателю лирический логос на эпическом фоне.
Лироэпический склад стихов Ивантера соответствует авторскому смыслу: Великая Отечественная война миновала, однако в сердце поэта звучат её отголоски, и, если взглянуть вокруг, можно убедиться, что война продолжается. Вот что внушает читателю автор.
Патриотическая тема в стихах Алексея Ивантера порою звучит трагически религиозно. В стихотворении «Тесть» поэт пишет (с. 76):
А к храму – в пырее тропа.
Ивантер оставляет читателям нынешнего и будущего поколений трагическое свидетельство о временах запустения в храмах. Советская история – эпическая тема – в религиозном измерении осмысляется поэтом сокровенно лирически и подчёркнуто трагично.
Поэт пишет также о сокровенной молитве, которая идёт от сердца, религиозный дар обнаруживает вдова военного связиста (с. 77):
Вдруг Богородице она.
Механическому произнесению заученных слов в стихах Алексея Ивантера противопоставляется голос сердца в молитве, вдова связиста умеет молиться
На водку просят всиневах.
В русле поэтической ереси Ивантер утверждает, что, быть может, Бог больше слышит сердечный плач, сердечный вопль, нежели складную, но холодную молитву. Поэт продолжает (с. 77):
что свет стоял перед окном.
Главные темы поэзии Ивантера – война, Родина и религия. Подчас они художественно осмысляются автором с юмором, напоминающим батальную поэму Твардовского «Василий Тёркин». Герою войны Тёркину по-своему не чуждо ничто человеческое и отнюдь не чужд житейский юмор. В сходном ключе описан один из лирических персонажей Ивантера. На смертном одре он помышляет и говорит (с. 81):
В которой нож стоит во фрунт!
Поэт продолжает литературную игру, шутливо перифразируя Пушкина, Ивантер пишет (там же):
Горячая, как русский бунт.
Гастрономическое явление – борщ – не без юмора осмысляется в патриотическом ключе. Например, оно связывается с типично русским именем Татьяна…
Сочетание высокой патетики и житейского юмора наш современник заимствует у Твардовского (хоть и не следует Твардовскому буквально).
В стихах Алексея Ивантера немалое значение имеет отечественная география. Не случайно вся подборка озаглавлена по одной из строк поэта – «От Воронежа и до Тамани». Пространственную протяжённость России поэт связывает с широтою души как этническим свойством русского человека.
Путешествия по огромной стране в поэзии Ивантера связываются с жизненными испытаниями человека, а они, в свою очередь, связываются с жизненной обстановкой суровой Сибири, хотя собственно сибирскими реалиями в стихах автор отнюдь не злоупотребляет.
Поэтически иносказательно Сибирь присутствует и в подборке стихов Дениса Попова «Дождь в кастрюле».
Поэт пишет (с. 122):
Дороги, жизни, выси.
Снег в контексте журнала «Сибирские огни» связывается с Сибирью, и всё же Сибирь у Попова как бы перерастает собственные границы и связывается с лесом мироздания, родственным, быть может, сумрачному лесу, лабиринту мироздания, где блуждает герой «Божественной комедии» Данте.
Наш современник продолжает (там же):
Деревьев и сознанья.
Подобно тому, как в стихах Ивантера пространственная протяжённость России связывается с широтой души как человеческим свойством, в стихах Попова пространственная высота деревьев связана с устремлением человеческой души к небу. И если деревья у Попова обретают невидимое иррациональное измерение, то они растут вглубь, а не только ввысь (чем глубже лес, тем выше рост).
В стихах Попова не наблюдается того подчёркнутого историзма, который присутствует в стихах Ивантера; однако у Попова присутствует стихия Хроноса, родственная как элегии – лирическому жанру, так и эпопее – жанру лирическому. Как лирик Денис Попов предпочитает элегию эпопее; в стихотворении «У зимнего рва» он пишет (с. 123):
Будто встали у рва.
Широкое лирическое движение простирается от суровых дней поздней осени до ожидаемой весны; поэт продолжает (там же):
В наползающий лед, до весны…
Следует неожиданный лирический финал (там же):
Вылезают не все.
Пёстрой смене времён года противопоставляется некое вневременное состояние мира, оно неизбывно связывается с благородно статическим прошлым – и с пространством, где обитает зимняя тишина. Ассоциативно и в то же время узнаваемо она связывается с Сибирью.
В стихотворении Попова «Дождь в кастрюле», давшем название всей подборке, читаем (с. 123):
В цепь собачью забитый Им.
Далее на манер Данте у Попова элементы мистерии сочетаются с шутливыми интонациями (там же):
И во мне – небо, стало быть.
Следует неожиданный лирический финал (там же):
Держит и заставляет выть?
В стихах Попова, как по другому поводу сказал Есенин, жива русская боль – буквально гвоздь, вбитый в человека.
Лирический Хронос элегии у Дениса Попова напрямую соседствует с эпическим Хроносом – спутником отечественной (и мировой) истории. Вот почему поэт воспринимает свою собственную боль как печаль за Отечество.
Если поэзию Ивантера и Попова сопровождает историзм, то подборка стихов Веры Калмыковой «Чужая оболочка» построена по иным внутренним законам. Калмыкова создаёт интимно-психологическую лирику с некоторыми незначительными элементами зауми, которые органически проистекают из погружения автора в свой собственный внутренний мир на контрастном фоне истории. Калмыкова не стремиться быть всегда понятной и не всегда ориентируется на широкую читательскую аудиторию.
Поэт пишет на сугубо личную тему (с. 106):
ибо от тебя неотличима.
Как свидетельствует поэт, двое могут пребывать в неразличимости и в итоге составлять нечто одно. Причём этот таинственный синтез намеренно фрагментарно (а не всецело) открыт широкому читателю.
Калмыкова – создательница интимно-психологической лирики; она пишет (с. 107):
без конца повторять: оболочка чужая.
Автор склонен сокровенно бормотать что-то про себя, отнюдь не всё договаривая широкому читателю, внутренний девиз Калмыковой – никому не отдать того, что вверено поэту.
Далёкая от батально-эпических тем, погружённая в свой сокровенный мир, Калмыкова отдаёт должное и дачной поэтике, родственной также Пастернаку. Наша современница пишет (с. 106):
Давай собирайся, поедем на дачу.
В лирическом финале произведения дача осмысляется как особая страна (или даже как особая планета). Поэт пишет (там же):
и толстенький дятел с расцветкой кошачьей.
Дача у Калмыковой предстаёт почти как уголок рая на земле, где сами собой одолеваются житейские невзгоды.
Стихи нашей современницы содержат и прозрачную аллюзию на известные строки Барто: «Наша Таня громко плачет, / Уронила в речку мячик». Очевидно, что в условиях загородной идиллии – и почти рая – Таня не плачет.
Сокровенный мир Калмыковой всё же не является для читателя непроницаемым, в восприятии поэта по-особому присутствует и Африка, и Америка, и другие явления реального мира, знакомого читателю.
Внутренне закономерно, что одно из стихотворений Веры Калмыковой написано непосредственно на историческую тему, оно озаглавлено сложно – и в то же время жизненно узнаваемо: «Екатерина у гроба Елизаветы (Картина Николая Ге)». Поэт свидетельствует (с. 107):
и красный огонь тебе путь.
Предвкушая своё восшествие на престол, Екатерина тайно – и почти явно! – ликует у гроба своей предшественницы. Она едва в состоянии скрыть своё реальное настроение (глаза хоть прикрой).
Некие решающие мгновенья истории лирически волнуют Веру Калмыкову, при всей её погружённости в частное бытие. Ведь уникальные – и незабываемые – мгновенья, точечные, но особо значимые отрезки исторического времени вторят ритму жизни и ритму письма Веры Калмыковой – она в состоянии мысленно ставить себя как на место Елизаветы, так и на место Екатерины. Ведь поэт, в конечном счёте, эстетически вездесущ.
К прозе и поэзии 7-го выпуска «Сибирских огней» по смыслу примыкает литературно-критическое эссе Артёма Попова «Пока не требуют поэта в прокуратуру на допрос». О стихах Александра Францева».
На примерах из поэзии Францева Попов пишет о том, что бытовая неустроенность, которая сопровождала советский период жизни страны, противоречиво свидетельствовала об идеальных целях советского государства.
Александр Францев становится в восприятии Попова страдальцем и печальником за великую страну (вот откуда прокуратура и допрос).
Позиция Попова, автора литературно-критического эссе с ярко выраженными элементами публицистики, абсолютно ясна: советская романтика с положительным знаком противопоставляется буржуазной прагматике 90-х.
И всё же к автору публикации возникают неизбежные вопросы (не замечания, а именно вопросы). Если Советский Союз исчерпал себя исторически естественным путём, непонятно, почему следует призывать воспетого Некрасовым бога гнева и печали. С таким же успехом мы могли бы сегодня негодовать, например, по поводу распада древнеримской цивилизации. В то же время аргументов в пользу того, что советскую империю уничтожили конкретные исторические лица, автор эссе не приводит.
Публицистическое эссе Попова размещено в рубрике «Критика. Литературоведение». В той же рубрике помещена публикация Константина Васильева «Исключение опровергает правило».
С редким филологическим остроумием и умственным изяществом автор статьи доказывает, что вопреки общепринятой предвзятости исключение отнюдь не подтверждает правило. Так, автор статьи показывает, что в английском языке имеется множество так называемых неправильных глаголов, т.е. глаголов, прошедшее время которых образуется не в соответствии с общим правилом. Однако, – свидетельствует автор статьи, – неправильные глаголы настолько типичны для английского языка, настолько часто употребительны, что назвать их исключением попросту язык не повернётся. Вопрос даже не в статистике – кто может произвести безупречный подсчёт всех английских глаголов? – вопрос в том, что неправильные глаголы составляют существенный пласт английской лексики. Они значимы не столько по количеству словарных единиц и частотности употребления, сколько по смыслу. Иначе говоря, едва ли ни основные жизненные процессы обозначаются в английском языке неправильными глаголами.
Параллельно Васильев приводит убедительный пример из русской классической литературы, который вновь опровергает пословицу «Исключение подтверждает правило». Васильев приводит аттестацию, которую Пушкин даёт Онегину:
«Хоть он людей, конечно, знал / И вообще их презирал, / – Но (правил нет без исключений) / Иных он очень отличал / И вчуже чувство уважал».
Васильев остроумно и проницательно указывает на то, что в данном случае исключения из правила – те немногие, которых Онегин уважал, значимее самого правила. Поэтому иные, которых Онегин был в состоянии ценить, никак не подтверждают правила, согласно коему Онегин вообще презирал людей – вот на что указывает Васильев. У Пушкина исключение значит больше правила.
В дальнейшем он обращается к латинскому оригиналу пословицы «Исключение подтверждает правило» и убедительно показывает разницу между латинским оригиналом и его русскоязычной перелицовкой.
Тем не менее, к Константину Васильеву, при всей проделанной им филигранной, академической работе, возникают и некоторые вопросы.
Во-первых, с какой точки зрения Васильев критикует известную пословицу – с лингвистической, с литературоведческой или с философской? Понятно, что различные точки зрения на предмет повлекут за собой различные методы и результаты исследования (каким бы обстоятельным оно ни было на данный момент). Васильеву присуща некоторая методологическая эклектика. (Очевидно, например, то, что Пушкинский «Онегин», художественное произведение, не измеряется по тем же законам, по которым измеряется английский язык, ибо он художественным произведением не является). Во-вторых, работа Васильева написана так, как если бы русскоязычные слова имели бы точные лексические аналоги на латыни. Но переводима ли до конца латинская пословица, к которой апеллирует автор статьи как к решающему критерию истины, мы не знаем. Пословица возникла страшно давно, за это время русский язык изменился… Корректно ли сегодня напрямую сравнивать его с латынью, древним языком?
Однако некоторые вопросы и пожелания к автору не отменяют как проделанной им титанической работы, так и редкого изящества мысли, присущего нашему современнику.
7-ой выпуск «Сибирских огней» за 2022 год традиционно завершает рубрика «Картинная галерея «Сибирских огней»». В данной рубрике помещена публикация Варвары Заборцевой: «Музей братьев Ткачёвых в Брянске». Искусствоведческий анализ творчества братьев Ткачёвых предваряет историческая справка. Братья художники являются долгожителями. Заборцева сообщает: «В сентябре прошлого года Алексею Петровичу Ткачеву исполнилось 96 лет. Его старший брат Сергей Петрович умер в марте 2022-го, не дожив до столетия всего полгода».
Как свидетельствует Заборцева, оба брата наделены отменным сибирским здоровьем. Один прожил долго, другой прожил долго и живёт до сих пор.
Собственно искусствоведческий тезис Заборцевой заключается в том, что братья Ткачёвы в своих полотнах сочетают историческую масштабность с изобразительной нюансировкой – например, со смешанной фактурой жёлтых осенних листьев и дождя или наледи.
Константным свойством «Сибирских огней» является историзм. В прозе и поэзии журнала явлен современный человек на фоне истории.
Если в прозе журнала ставятся нравственные проблемы – например, проблема свободы, то в лирике «Сибирских огней» оживают сокровенные смыслы, непреходящие ценности, сопряжённые с истинным, а не показным патриотизмом.
В целом же журналу «Сибирские огни» присущ здоровый консерватизм и разумное устремление в будущее.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети