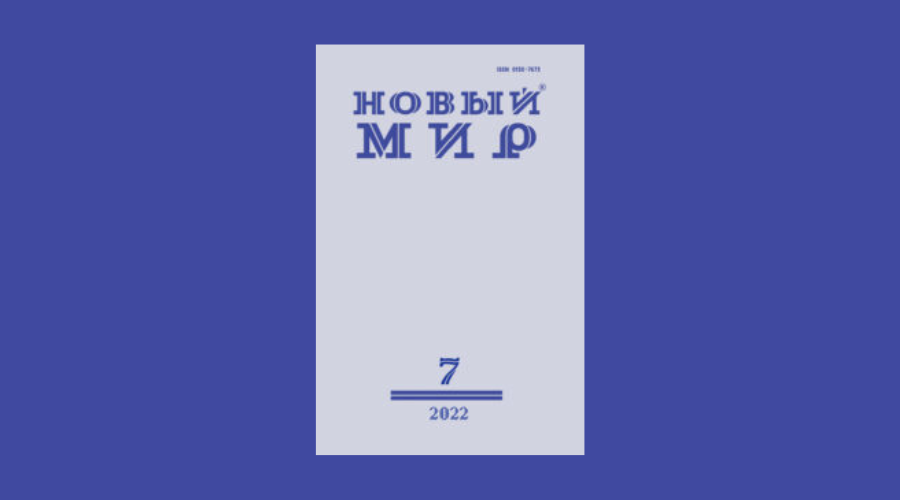«Новый мир» № 7 (1167), 2022
Литературно-художественный журнал «Новый мир» издаётся в Москве с 1925 года. Выходит 12 раз в год. Тираж 2000 экз. Публикует художественную прозу, стихи, очерки, общественно-политическую, экономическую, социально-нравственную, историческую публицистику, мемуары, литературно-критические, культурологические, философские материалы. В числе авторов «Нового мира» в разные годы были известные писатели, поэты, философы: Виктор Некрасов, Владимир Богомолов, Владимир Дудинцев, Илья Эренбург, Василий Шукшин, Юрий Домбровский, Виталий Сёмин, Андрей Битов, Анатолий Ким, Георгий Владимов, Владимир Лакшин, Константин Воробьёв, Евгений Носов, Василий Гроссман, Владимир Войнович, Чингиз Айтматов, Василь Быков, Григорий Померанц, Виктор Астафьев, Сергей Залыгин, Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Руслан Киреев, Людмила Петрушевская, Ирина Полянская, Андрей Волос, Дмитрий Быков, Роман Сенчин, Захар Прилепин, Александр Карасёв, Олег Ермаков, Сергей Шаргунов и др. В журнале дебютировал с повестью (рассказом) «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын (1962, № 11).
Андрей Василевский - главный редактор, Михаил Бутов - первый заместитель главного редактора, Марианна Ионова - редактор-корректор, Ольга Новикова - заместитель заведующего отделом прозы, Павел Крючков - заместитель главного редактора, заведующий отделом поэзии, Владимир Губайловский - редактор отдела критики, Мария Галина - заместитель заведующего отделом критики.
В этой точке кипит земля
Июльский номер «Нового мира» за прошлый год открывается подборкой стихотворений поэта-священника Сергея Круглова «Синодик», написанных в 2020–2021 годах. В основе образности этих стихов, что очень характерно для автора, – нераздельность (но и неслиянность – скорее, тесная и парадоксальная сопряжённость) быта – церковного и мирского – и пламенеющей метафизики, жизни земной и вечной. Христианский духовный опыт переживается поэтом как, во-первых, пронизывающий опыт чувственный и повседневный чуть ли не в каждой детали, во-вторых, – как вызов и задание. Далёкий от всякой рутины, чуждый и противоположный любым инерциям, остро-проблематичный, этот опыт обретается едва ли не каждый раз заново и постигается не иначе как внутренним, личным, парадоксальным усилием, на свой страх и риск, а христианская жизнь предстаёт как повседневная битва света с тьмой, жизни со смертью.
никак не лопаются.
Таинственное единство нераздельности и неслиянности ожидает читателя и во втором тексте номера – большом начальном фрагменте романа Даши Матвеенко «Чужая юность». В нём переплетаются, переходя друг в друга почти незаметно, без чётко маркированных границ, две истории, сменяя одна другую то через большие, а то и огромные (во много страниц!), периоды, а то и через абзац. Из той части романа, что помещена здесь, нам ещё не понять, как они связаны друг с другом, надо дожидаться августовского номера, а пока происходящее таинственно, и остаётся лишь не сомневаться, что связаны (кстати: есть места, в которых одна история просвечивает сквозь другую, прямо-таки прорывается в неё). Пока же их объединяет только то, что обе происходят в Москве и героини обеих – девушки лет, думается, двадцати. При этом одна история относится к XIX веку, очевидным образом в первой его половине, на что указывает уже первое предложение романа: в нём у «лютеранской кирхи у Ивановской горки», то есть у собора Святых Петра и Павла в тогдашнем Космодамианском, нынешнем Старосадском переулке, ещё «плоский купол», которого здание, как известно, лишилось в результате реконструкции, завершившейся в 1862 году; а вот и нижняя граница происходящего: не ранее 1837 года, когда в соборе состоялся первый органный концерт. На одном из таких концертов мы впервые видим героиню этой истории, Надю Сперанскую («нет, не из тех»). И ещё относительно молод, но уже известен в литературной среде, опытен, несколько устал и женат играющий на этом концерте собственное сочинение князь Владимир Фёдорович Одоевский, в которого влюблена героиня. (Одна точная дата в глубине повествования всё-таки мелькнёт: 1843 год.)
Вторая линия (некоторая маркировка у неё есть, внимательный читатель заметит и сразу будет понимать, в каком из времён он находится в данный момент чтения) развивается в условные «наши дни», – совсем чёткой датировки нет, но вычислить легко (помните, в каком году книжная ярмарка на Красной площади проходила в экстремально холодном июне?), и приметами печальных наших дней эта линия набита до отказа, и имени героини этой линии мы (пока?) не узнаем, и в её жизни есть некоторый «он», также безымянный. Пока в обеих своих линиях повествование убедительно кажется (притворяется?) добротной реалистической прозой, но прорывы двух параллельных времён друг в друга, внезапные просверки то из будущего в прошлое, то наоборот (а то и князь Одоевский невзначай процитирует Заболоцкого, а Наденька вдруг – Георгия Иванова) заставляют подозревать, что неспроста автор так подмигивает читателю, за этим наверняка кроется что-нибудь неожиданное. Реинкарнация? путешествия во времени?.. – ждём продолжения с нетерпением.
В подборке стихов, объединённых заглавием «Город-городок», казалось бы, ничто не выдаёт израильского опыта поэта Юлианны Новиковой, уже почти двадцать лет живущей за пределами нашего отечества и работающей врачом в Беэр-Шеве. Русские интонации, иногда почти фольклорные («Так давным-давно, / Что темным-темно»), восточно-украинские – Юлианна родом из Северодонецка, и вспоминается тут, конечно, он – неуютные пространства («О, это гиблое место с названьем реки! / Как же дорожки к тебе и кривы, и окольны»), дующие там тревожные ветры («Вольный ветер степей! Хочешь ешь его, хочешь – пей, / Станешь с ним одним заодно, / Если так тебе суждено»). Разве что – некоторая напряжённая ностальгичность, заданная большой дистанцией, с которой вспоминается детство в далёкой северной стране, – не идиллическое совсем, скорее наоборот, но такое, в котором таинственным образом было что-то от бессмертия («Жили себе, поживали, / Воздух сухой жевали, / Но вот, что было странно – не умирал никто»).
В «повести вневременных лет», звукоподражательно озаглавленной «Плюти-плют» – с таким звуком от присущего ему пропеллера «во тьме летит многоликий Карлсон», – под пером Владимира Березина персонаж повести Астрид Линдгрен и впрямь обретает исключительное обилие лиц, прежде ему не присущих, и пробует себя (стремительно утрачивая исходные свои особенности, включая даже пропеллер) в других средах. Автор же в ответ вплетает его в многоразличные (по преимуществу детективные) сюжеты, отдельные элементы для которых заимствует у Линдгрен (а словесные обороты – из классического русского перевода её, сделанного Лилианой Лунгиной: например, «домомучительница» и «пустяки, дело житейское»). Причём действие происходит не только в родной для героя Швеции, но и вдали от неё, а перемещается герой не только в пространстве, но и во времени. (Малыш, к слову, перевоплощается и перемещается вслед за ним, так что они образуют нерасторжимую архетипическую пару.)
Бывший обитатель стокгольмской крыши обнаруживает теперь способность обернуться, например, Николаем Алексеевичем Карлсоном, школьным учителем, построившим «уникальный двигатель, мощный и бесшумный, работающий на мочёном песке. С помощью такого мотора человек мог летать не хуже вертолёта» (не откажем себе в удовольствии спойлера: да, к хорошему это не приводит), чтобы перевести дух после такого радикального перевоплощения, – шведским доктором Карлсоном, затем, набравшись сил (и сохраняя шведскую идентичность), – сразу в будущее, в образ пилота «суборбитального туристического шаттла», имевшего неосторожность приземлиться на краешке евроазиатского континента, погубленного ядерным конфликтом; после этого закладывает головокружительную временную петлю и оказывается в советском времени с комсомольцами и железным занавесом между нами и Западом (потом трипы в прошлое будут и более дальними). Сюжет при этом нахватывает много образующих элементов у фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и, поскольку этого мало, у «12 стульев» Ильфа и Петрова, а Карлсон сливается с модифицированным образом бедного Ипполита. Далее… ну не буду вас больше мучить, сами увидите; от автора с Карлсоном достанется ещё не одному основополагающему тексту отечественной и переводной словесности, а также русской и мировой культуры вообще и не одной её заметной фигуре. В этом отношении текст Березина, несомненно, тяготеет к энциклопедичности; читатель же, опознавая отсылки и расшифровывая аллюзии, получает возможность радоваться своей начитанности.
Таким образом, надо думать, автор проблематизирует стереотипы читательского сознания (и высмеивает по ходу дела заботы, страхи и стереотипы нынешнего массового сознания вообще: «Это «Старичок»! – вскрикнул он [Карлсон, кто же ещё. – О.Б.-Г.] – Конечно же, это «Старичок», зловещий русский яд, вызывающий ураганное старение»), образ же Карлсона выявляет свой архетипический потенциал и способность обретать разные содержания и разные смыслы в разных средах.
Стихи русского парижанина Александра Радашкевича (подборка «За незапамятным небом»), основательные, медленные (как корабли, гружёные Мировой Культурой), по степени подробности описания и анализа реальности – особенно минувшей – готовые соперничать с прозой («…подъездная любовь, на портвейной чердачной площадке / после концерта в доме культуры, что стоила стократ и полых / лет, и зряшных зим, и зрелых прозябаний…»), несколько церемонные, чуть архаичные («…не прислышится ль вам / по утрам, всех вселенских ночей на / изломе, в фарандоле оплавленных солнц, ропот сердца, что не достучалось / над терновыми чётками дат?»), с торжественными славянизмами («многодревие») и даже латинизмами («salix viminalis», «saponaria officinalis»), с совсем редкими, категоричными до узости суждениями о быстротекущей современности («слепо пялятся в экраны / дигитальные рабы») заводят нас и в русское прошлое («Город детства» на всю катушку в пустой квартире <…> «Горечь» прописная / у ленинградского метро»), и в португальское приморское, приокеанское настоящее («…ноздреватых утёсов циклопический лад над / пологой волной океана, который из опаски тут / именуют морем…»). Это последнее, впрочем, нисколько не очаровывает поэта («Всё тут / глухо, зло и скверно грязно, пепельно, неверно…») и служит скорее поводом к тому, чтобы сфокусировать внутренний взгляд на универсальных человеческих обстоятельствах, на (обще)человеческом одиночестве и покинутости в мире (интересно, что разбиение этих текстов на строки не совпадает с ритмическим их разбиением: «Было, ныло, / млело, льнуло, отболело, отошло, только милое / светило сквозь провалы мирозданья подплывает к той / меже, где уже почти наощупь продираемся сквозь сны / растворяющейся яви и чужие миражи, где нас нет / сто крат в помине, где коптят витые свечи чьим-то / ряженым богам»).
Далее под общим заголовком «Нобелевская премия» опубликованы рассказы Евгения Бесчастного (общий заголовок заимствован у одного из них). Сквозную их тему можно обозначить как физиологию и психологию невозможного. Первый рассказ повествует о Вечном Жиде, о том недолгом времени, на протяжении которого повествователь, недолгий его сосед по дому, имел возможность за ним наблюдать, и о трансформациях, происходящих в восприятии бессмертного человека («Старик жил так давно, что разучился складывать целое из частей. Он видел не спектакль, а разрозненных кривляющихся людей. Он не мог слышать музыку, а лишь отдельные звуки, нагло выскакивающие друг у дружки из-за спины. Вместо целостной картинки на электронном экране его глаза показывали ему только бессвязные точки пикселей»). Второй – о том, как безвестному писателю, не слишком удачливому (скорее уж наоборот: «Я был тогда почти всё время пьяным и голым, давным-давно не писал и бесконечно начинал новую жизнь»), работающему ради хлеба насущного на заводе, присуждают – и действительно вручают! – Нобелевскую премию по литературе («Во время банкета Король крепко подсел мне на уши. Я слушал его с большим напряжением, потому что не знал, что ему ответить и как преодолеть стеснительность и положить себе что-нибудь на тарелку»), и что из этого вышло (не только ничего хорошего: по большому счёту, ничего вообще!). Третий рассказ, пожалуй, выбивается из ряда, намеченного первыми двумя. Он помещает нас в сознание серийного убийцы и показывает специфику его устройства (проговориться ли? – у него исключительно периферийное зрение: на месте самого убийства у него слепое пятно).
И вот вторая – кроме открывающей номер кругловской – подборка христианских стихов, Станислава Минакова, – «По песку искупленья». Эта страстная лирика – христианская не столько по предмету идущего в ней разговора, – хотя есть и пересказ евангельского сюжета: «И все вокруг сказали: «Лазарь мёртв. Вот, умер, мёртв. Воистину недвижен». А Он сказал: «Безверье, а не смерть / терзает вас. А Лазарь – жив лежит»), и ссылка на одного из отцов Церкви («Не проспи свою смерть, / не проспи, не проспи, не проспи, говорю. / И Григорий про то Палама говорит»), и всматривание в иконы: «А северный мастер такие писал образа – / где Ангел Господень / на землю струился очима, / и свет, нисходивший с небес деисусного чина, / и даже прямой разговор – сложно устроенный, спор-исповедь – с Главным Адресатом: «Да, мой Боже, я тоже – всему виной! Да, Господь, я собой – прежде всех – казним! / В это утро, Вседобрый, Ты был со мной. / Но не знаю, как дальше мне быть с собой, / Что мне делать с миром моим?», – сколько по типу пронизывающего её напряжения, по направлению не одного только внимания, но всего существа героя-повествователя. В каком-то смысле это молитвы, и основное разворачивающееся в этих текстах событие – нет, не борьба жизни со смертью, как может показаться (дерзость со смирением – да, борется, и пока никто не побеждает), но напряжённое вглядывание их друг в друга как частей одного целого. «Несуетным сердцем / возвысься до мысли о смерти. / Такие / кирилловский мастер / писал образа».
«Три рассказа» Тииджьины Теегиной – человека с редкостным, хочется сказать – экзотическим культурным опытом: калмычки, живущей в Норвегии и пишущей по-русски, – сновидческие, мифологические («Моё первое имя было старше меня. Оно было воздушно-прозрачным, густо мерцающим, синим. Оно было ясным, тёплым и высоким. Оно было у меня ещё до того, как мои родители решили, что я скоро должна появиться. Мама называла меня первым именем задолго до того, как стала двойной»). Написанные изысканным и тонким, сложным и точным русским языком, они при этом совершенно калмыцкие (даже тот, последний, в который вкраплены европейские культурные элементы, вплоть до восклицаний на европейских языках: «D’accord», «Allez! Allons-y!», «c’est bon») и представляют мир – и внешний и, особенно, внутренний, – совсем незнакомый нам, живущим за пределами Калмыкии. Эти тексты, пожалуй, – одни из самых необыкновенных и сильных впечатлений в июльском номере.
«Наследство» Максима Глазуна – по существу, роман в стихах. Разбитое на датированные главы и начинающееся с интригующе-трагической завязки: «…Ваня включает свет. / Ваня видит расчленённого человека <…> Вот незадача. / Смерть» («2010») и долго, долго ещё: «Июль 1999», «Август 2000»… – предстающее почти идиллическим рассказом о детстве двух близнецов, о тонкостях и сложностях их взаимоотношений, о судьбе их деда, поэта-любителя, – повествование внезапно, в «Сентябре 2001-го», делает резкий разворот – и оборачивается историей совершенно чудовищной, неожиданной (по совести сказать, даже немотивированной) и безнадёжной, а внимательно собранные подробности жизни и взросления близнецов, занявшие первые главы, остаются совершенно невостребованными, не влияют ни на что происходящее: всё заполняет и вытесняет удушливый ужас.
«Записки неизвестного» Анны Голубковой – чорановская[1] горькая темнота, чорановская беспощадная и безутешная честность с отсылкой в последней фразе рассказа к «Тошноте» Сартра, которую далёкий от всякого интеллектуализма герой скорее всего и не читал, – об одиночестве, о невозможности любви (не то чтобы её хочется, а она не даётся, – нет, она просто невозможна по самому устройству всего, её в этом устройстве нет), о непреодолимой мучительности быть самим собой, и, в конечном счёте, о невозможности жизни. «…Я и человеком-то даже себя не чувствовал, а так, какой-то кучкой человекообразной биомассы. Было невозможно даже пальцем шевельнуть, не то чтобы встать и начать что-то делать. На меня давила многокилометровая толща атмосферы, и не было сил сбросить с себя этот тяжёлый и бестолковый груз». Кстати, этот якобы дневник, якобы обнаруженный издателем в якобы оставленной истинным автором дневника жилище, написан женщиной с замечательным, гипнотически-убедительным вживанием в мужскую психологию. «Проснулся сегодня с таким чувством, как будто уже умер. Потрогал левую щёку. Кожа на ощупь холодная и вялая. Почесал безжизненную и какую-то чужую кожу. Показалось, что она уже отстаёт от костей. Внезапно представилось, что лежу в плохо оструганном деревянном ящике. Охватил мгновенный и жуткий ужас оттого, что всё кончено».
Эссе философа и прозаика Владимира Варавы «Целая минута блаженства». Экзистенциальная исповедь мечтателя» в следующем за художественным блоком разделе «Философия. История. Политика» поневоле читается как ответ на эту реплику в заочном разговоре о смысле человеческого существования. Если герой Голубковой, сама ситуация этого героя со всей очевидностью показывает, даёт читателю пережить полную, абсолютную невозможность смысла (что должно быть принято как одна из предельных точек всего континуума мнений на эту тему), Варава спускается к самим корням этой темы в литературе и шире – в европейском сознании, в самой ситуации европейского человека, сложившейся в основных своих чертах уже в XIX веке. Он рассматривает ту же ситуацию у героев Достоевского – предшественника экзистенциалистов («В значительной мере мечтатель Достоевского – это предтеча Мерсо из «Постороннего» Камю и Рокантена из «Тошноты» Сартра»), а приводимая им цитата из современника Достоевского – Кьеркегора кажется написанной рукой безымянного героя Голубковой: «Ничего не хочется. Ехать не хочется: слишком быстро движение; идти не хочется: слишком утомительно; да и ложиться не хочется, потому что тогда нужно либо лежать, а этого не хочется, либо снова вставать, а этого тоже не хочется. Summa summarum: вообще ничего не хочется. <…> Вот так и я живу сейчас, как в осаждённой крепости, но, чтобы не понести урона от чрезмерного бездействия, я обычно плачу, пока не устану. <…> Жизнь моя подобна вечной ночи… Моя жизнь совершенно бессмысленна… Как, однако, ужасная скука – ужасно скучна!.. Вот так и я лежу, но единственное, что открывается моему взору, – это пустота; единственное, в чём я живу, – это пустота; единственное, в чём я двигаюсь, – это пустота. Я не ощущаю даже боли». Вывод, предлагаемый В. Варавой, неожиданно утешителен: «За всем этим кроется не что иное, как страстный поиск истинной жизни». «Не бессмертия жаждет человек, но истины. На самом деле все только этого и хотят и, не зная, как этого достичь, погибают в недействительных идеалах или в неидеальной действительности». Причём ни типовые обывательские радости, ни даже любовь, сколько бы ни соблазняли, как бы убедительны ни были их соблазны, – не могут заменить истины, а потому и не помогают.
В рубрике «Опыты» – «Два эссе в одном» двуязычного, русско-эстонского поэта, прозаика и драматурга Калле Каспера, объединённые названием «Замогильные записки». Первая их часть посвящена Франсуа Рене Шатобриану (название этого двутекстия заимствовано не только у него, как читатель вскоре увидит), подробному прояснению той позиции, из которой он писал свои «как бы мемуары» («Важнейшей чертой личности Шатобриана является романтическая поза»), её содержаний и истоков, его влиянию на последующую европейскую мысль и европейское чувство. И это, поверите ли, ещё одно возвращение к разговору о смысле жизни (скорее, о бессмысленности её), к корням этой темы в европейском дискурсе: «Сам, возможно, этого не желая, он [Шатобриан. – О.Б.-Г.] продвигает идею бессмысленности жизни – идею, из которой столетием позже вылупляется экзистенциализм».
Второй герой Каспера – и тоже автор сочинения под именем «Замогильные записки» – русский европеец Владимир Печерин («более француз, чем сами французы», осевший в конечном счёте в Англии; записки его, как говорит Каспер, «пример скорее французской, чем русской литературы» – и притом, вопреки расхожему мнению, никакой не западник), человек, противоположный Шатобриану биографически – и именно поэтому обнаруживающий глубинное сходство с ним. «Мало кому известный католический монах русского происхождения», диссидент, Печерин бежал из России единственно для того, «чтобы сохранить в себе собственное достоинство» («Одного этого, – замечает автор. – достаточно, чтобы вызвать уважение»). Фактический современник Достоевского, он, полагает автор, по сути современник скорее уж Пруста: опережающий даже живущих с ним в одно время европейцев, русскую мысль он «опережает <…> примерно на полвека» – хотя бы в пристальности самоанализа. Что касается его воззрений на историю и предпочтительное устройство социальной жизни, то «…Печерин мог бы стать идейным вождём глобалистов, ежели б те о нём знали».
В рубрике «Литературоведение», в статье «Призыв к порядку» Антон Азаренков проводит неочевидные, но убедительные параллели между литературными судьбами Иосифа Бродского и Игоря Чиннова (выявляя также и контраст между ними) и рассматривает восприятие Бродского русскими эмигрантами первой волны (включая Чиннова, к этой волне как раз принадлежавшего). «В целом, – говорит он, – <…> заочные отношения Бродского и Чиннова можно определить как взаимный, внимательный и несколько ревнивый холод», как «неартикулированное соревнование». Название статьи притом отсылает к одноименному интернациональному движению – «Rappel a l’ordre», «которое оформилось в европейской художественной среде сразу после Первой мировой войны и характеризовалось отказом от новейших достижений авангарда и модернизма и обращением к традиционным ценностям классического искусства»: характерными представителями этого движения – полагает (и аргументированно доказывает) автор – принадлежали, не заявляя ничего такого на уровне манифестов, оба его героя.
В отделе «Рецензии. Обзоры» Дмитрий Бавильский рецензирует «роман-гобелен» Александра Плоткина «Сигнал» (очередной оммаж экзистенциалистам: «…после первой главы кажется, что Плоткин затеял российский аналог «Тошноты» Жана-Поля Сартра, подселив в Ригина самопожирающую экзистенциальную изжогу…» – но нет): Александр Марков пишет о книгах Светланы Алперс «Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке» и «Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок» (о русских переводах их английских оригиналов); Ольга Христофорова – о книге Владимира Серкина «Мышление шамана», в которой автор, доктор психологических наук, ставит себе целью «соединить позитивные методологические установки с фактами (феноменологией) хотя бы описанной или лично знаемой шаманской практики и <…> начать предлагать свои возможные объяснения, частично выходящие за рамки существующих теорий и концепций». Традиционное «Кинообозрение Натальи Сиривли» имеет своей ведущей темой «Рецепт выживания» и посвящено одному из последних европейских артхаусных фильмов, «который шёл у нас в официальном прокате в феврале-марте, напоминая отчасти идиллически райского попугая, вылетевшего из клетки посреди студёной зимы», – «Роману служанки» («Mothering Sunday») режиссёра Евы Хуссон по одноимённому роману букеровского лауреата Грэма Свифта.
В «Библиографических листках» «Выбор Сергея Костырко» на сей раз представлен «Книжной сотней» Ирины Роднянской («…критик исходит из того, что не его это дело – учить литературу, какой ей быть»), «Литературным Тур де Франс» Роберта Дарнтона («Представлений наших о культуре Европы эта книга, скорей всего, не перевернёт, но – существенно дополнит») и «Каирскими хрониками хозяйки книжного магазина» Нади Вассеф – одной из основательниц книжного магазина «Divan» в Каире в 2002 году: «для них речь шла об открытии не просто новой торговой точки, а нового общественного пространства, где стихийно образуются новые сообщества, в данном случае сообщества просвещённых мыслящих людей (отдалённый русский аналог – магазин-клуб «ОГИ» в Москве конца 90-х»).
И, наконец, заключает номер традиционный обзор Андрея Василевского, посвящённый наиболее ярким, по мысли автора, публикациям в бумажной и электронной периодике, каждая из которых, в свою очередь, представлена одной или несколькими выразительными цитатами, а иногда и ссылками на другие материалы цитируемого автора.
[1] Речь о румынско-французском мыслителе-эссеисте Эмиле Чоране (1911–1995), чьи аналитические эссе и афоризмы полны разочарованием в человеческой цивилизации, мрачным скепсисом, а также безжалостностью к себе и к человеку в целом.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети