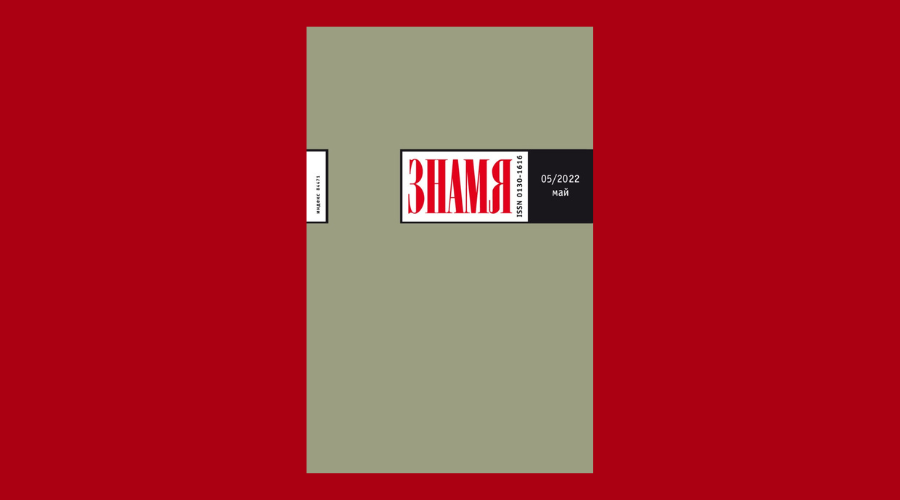«Знамя» № 5, 2022
Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Знамя» издается с 1931 года в Москве. Выходит 12 раз в год. Тираж 1300 экз. В журнале печатались А. Платонов, Ю. Тынянов, А. Твардовский, В. Некрасов, Ю. Казаков, К. Симонов, Ю. Трифонов, П. Нилин, В. Астафьев, В. Шаламов, Б. Окуджава, Ф. Искандер, Л. Петрушевская, В. Маканин, Г. Владимов, Ю. Давыдов, В. Аксенов, В. Войнович и многие другие талантливые писатели.
Сергей Чупринин (главный редактор), Наталья Иванова (первый заместитель главного редактора), Елена Холмогорова (ответственный секретарь, зав. отделом прозы), Ольга Балла (Гертман) (заведующая отделом публицистики и библиографии), Ольга Ермолаева (отдел поэзии), Станислав Вячеславович Секретов (заведующий отделом «общество и культура»), Людмила Балова (исполнительный директор), Марина Гась (бухгалтер), Евгения Бирюкова (допечатная подготовка, производство), Марина Сотникова (заведующая редакцией, распространение).
Главное, что молоды душой
Чтобы понять посыл майского номера журнала «Знамя» обратимся сразу к странице сто семьдесят девятой, где развернулась дискуссия не просто о современной, а о современной «молодой» прозе. Критики высказали своё мнение на тему «Прозаики дебютанты: новая проза?» и неслучайно эпитет молодости стоит взять в кавычки. В первую очередь Евгений Абдуллаев и Ольга Балла ставят вопрос о том, кого из авторов всё-таки считать «молодыми», и приходят к единому мнению, что в последнее десятилетие в прозу приходят всё больше тридцатилетние, за исключением пары случаев дебютантов премии «Лицей». Трудности возникли и с приведением примеров, критики в основном ссылались на именитых авторов, таких как Евгения Некрасова, Вера Богданова, Григорий Служитель, Артём Серебряков, Рагим Джафаров, которым уже присвоены премии и книги этих авторов выходят многотысячными тиражами. Как верно отмечает Александр Марков, проще говорить о поколении писателей «миллениалов», которые уже в некоторой степени состоялись, нежели о «зумерах». Задачу новой литературы Александр видит в избавлении от «литературного всезнающего тона», в превращении «блога» в литературу, что становится причиной возникновения новых гибридных жанров и направлений. Через призму Николая Подосокорского те же характеристики современной прозы, напротив, предстают в негативном формате: «нарочитый инфантилизм, примитивный позитивизм, плохо проработанный автобиографизм». Молодые писатели пытаются преподнести себя как бренд, по итогу страдают текст и его качество.
Писателям, отрицающим путь литературного маркетинга, приходится пробиваться в мир литературы через писательские форумы и съезды. Порой это даёт не менее плодотворные плоды, за примером далеко идти не приходится, в рубрике «Карт-бланш» Денис Драгунский знакомит читателей с чеченским прозаиком Адамом Салахановым, которого ранее заметил на семинарах в «Липках». Если признать современный этап литературы как метамодернистский, то Адама можно назвать истинным представителем современной прозы, новизна которой выражается в сочетании контрастов: материального и метафизического, интеллектуального и поверхностного, философского и обывательского, об этом говорит и определение названия его произведения «Алекситимия» – затруднение в словесном описании своего душевного или эмоционального состояния. Лирический герой и автор, если и не являются одним лицом, то оказываются очень близки, так что культурные комбинации, проявляющиеся в различных отсылках к массовой культуре и науке, обретают гармонию в непривычных гибридах: «Когда еще по наводке змея Ева, протянув моему тезке яблоко, выронила его, и оно, отрикошетив от головы Ньютона, попало в руки Джобсу, который и вгрызся в него. Так же и ты – не для него и не с ним». Целостность повествования достигается и благодаря своеобразному построению художественного пространства как полноценного мира, разделённого по характеру познания наук: математика, литература, философия, теология и т.д. Все аспекты вместе помогают читателю воспринять события в Чеченской Республике совершенно с нового ракурса, абстрагировавшись от сухих исторических фактов и новостных сводок.
Не столь кардинально, но не менее виртуозно экспериментирует со временем и пространством воронежский писатель Василий Нацентов. Рассказ «Праздник» интересен точкой видения главного героя Бориса, основанной на полнейшем эмпиризме. Борис не просто романтик, он бы хотел подчинить действительность «лирическим законам», но вынужден «довольствоваться настоящим», тем самым обрекая себя на пожизненную борьбу, которая вне литературы теряет всякий смысл. В какой-то момент герою кажется, что стоит ему высказаться радикальнее о своей позиции, как душевные терзания его покинут. Однако уже пробуждённый мыслью разум не получается усыпить мнимой сделкой с совестью, как это выходит у антагониста, а по совместительству брата героя, Павлуши, забывающим все беды за бутылкой. Попытка внедрения лирики в реальность наблюдается и в рассказе «В нашем городе Х», который больше похож на поэтическую зарисовку безвременья вне пространства в прозе.
Лауреат российских премий «Русский букер» и «Ясная поляна» Саша Николаенко в свойственном для неё стиле подходит к философским и теологическим проблемам с долей иронии и юмора. Так, в эпистолярном рассказе «Бытие» пожилой Иван Дятлов делится с женой и читателями своими впечатлениями о недавно прочитанной и переосмысленной Библии. Особое место в его повествовании занимает эпизод с Ноевым ковчегом, трактованный Иваном не просто обывательски, а в сопоставлении с собственной жизнью, в конкретном случае с детством: «Ничего они от меня не хотели, и не верили в меня мои муравьи. А потом вдруг наскучило мне им объяснять, как тут все в моем городе для чего, куда им бежать, и кого за все за это благодарить, и решил я их наказать, принес ведро воды, да и вылил. Смыл полгорода, мне понравилось, я еще принес, и еще… А потом поймал с десяток «хороших», посадил на пенопласт их прогулочный, да и начал спасать. Спасать, Анюшка, от себя самого». Гротеск достигнут проведением аналогии между двумя крайностями – библейским сюжетом и муравьями. Но даже столь незамысловатый наглядный анализ библейских истин продуктивнее слепой веры.
Иронией также пропитан рассказ Игоря Савельева «Грязь», где вновь, как и в ранних его произведениях, поднимаются остросоциальные проблемы. По сюжету героиня, вдова известной персоны, пытается найти тело крионированного мужа, в связи со скандальным «закрытием» крио-хранилища и возможным «освобождением пациентов». Ситуация малоадекватна, даже абсурдна для большего накала страстей добавляется недоговаривающий адвокат, сомнительная история смерти мужа и мутный договор с агентством по заморозке тел. «Медийный шум», по словам самого автора, является базисом его произведений, а накладываемая сверху ирония помогает адекватно выразить хаос «политического абсурда». Человек-песчинка, попавший в этот водоворот уже не может выбраться и мало что понимает в происходящем, вынужденный, как и Ольга, вслепую брести вдоль забора и стучаться в первые попавшиеся ворота в надежде на объяснение.
Последующие авторы-прозаики более консервативны в формах и методах повествования, склоняясь в большей мере к любовным темам. С этой точки зрения стоит проанализировать и сравнить повесть Ольги Кучкиной «Переводчик» и рассказ Арсения Гончукова «Все кроме неё». В обоих случаях повествование вмещает в себя всю жизнь главного героя, которую он измеряет в дамах своего сердца. Стоит отметить, что герои жители двух российских столиц – Санкт-Петербурга и Москвы, оказываются весьма практичными людьми и целью отношений видят не просто любовные утехи, а построение карьеры, создание домашнего очага и определённой атмосферы спокойствия. О последнем пункте мифическую теорию излагает герой Арсения Гончукова, якобы только коренной москвичке свойственно поведение неспешное и спокойствие, а в соответствии с этим и создание уюта, который был так ему необходим. Когда же москвичка Лера получает престижное место в заграничной конторе, герой трагически отвергает её предложение переехать вместе, «обрекая» себя на гордое оплакивание погибшего московского уюта. Безымянный герой Ольги Кучкиной идёт ещё дальше и после потери любимой жены погружает себя в своеобразный траур, сожительствуя с женщиной, больше похожей на тень, и заведя собаку. И если бы не попытка автора оправдать своего персонажа его патологической зависимостью от женщин, текст мог бы неплохо высмеивать бесхребетного героя нашего времени, не вызывая у читателей недоумение навязываемым сочувствием.
Решительнее, чётче и карикатурнее рисует картину современных нравов Ирина Муравьёва. Повесть «Ведьма», написанная в формате нестандартного фэнтези, метафорически подчёркивает пороки общества. Поднимаются общеизвестные проблемы эмиграции, феминизма, однополых браков, с которыми нечистая сила справляется и смиряется гораздо успешнее, чем простой народ. Сами по себе ведьминские образы и бесовские обряды напоминают шарж на «Мастера и Маргариту» Булгакова. Сатирическая тональность периодически сбивается на беллетристические ноты, а в финале сюжет вовсе обращается в фарс, гармонирующий с ведьминскими шабашами. Незатейливые сюжетные линии, носящие порой откровенный характер, отсылают читателя к жанру плутовского романа. То же касается и аудитории, от которой не требуется глубокого вчитывания и анализирования, что позволяет читателю ненадолго «отключиться» на развлекательный сюжет после типичной журнальной прозы, претендующей на интеллектуальность и высокохудожественность.
Раздел поэзии тоже начинается с самобытных уже признанных авторов. Первым выступает казахский поэт Бахыт Кенжаев, предпочитающий формы верлибра для своих аутентичных текстов. Его единственное представленное стихотворение «Четырнадцать соседей – и никто…» пропитано ностальгией по родным краям и безвозвратно ушедшему прошлому. Лирическое настроение Юрия Ряшенцева, напротив, пропитано решительностью и призывом к жизни, которая «прекрасна без революций, ломок и блицкригов». Жизненный опыт поэта, прошедшего через Великую Отечественную войну, не отпускает автора даже в мирных стихах, где природа и быт невольно напоминают герою военное время. Схожая тематика прослеживается в поэзии советского писателя Константина Ваншенкина, также ветерана войны и обладателя Государственной премии Российской Федерации. Короткие ритмизированные четырёхстишия выдают в авторе поэта-песенника, зачастую темп строк отсылает нас к народному творчеству:
Уклониться некуда.
Другая часть поэтических подборок приближена к модернистскому направлению и стремится к экспериментальным формам. К примеру, Григорий Кружков, как исследователь английской поэзии, в своих собственных стихотворениях сочетает абсурд английской поэзии и философскую тематику, что наглядно демонстрирует в стихотворении «Аристотель». Творческий подход Бориса Пейгина, напротив, более детализирован, автор акцентирует внимание на семантике слов и звукописи: «Я вязкость вяза, / Я липкость тополя». Автор зачастую прибегает к игре как смысловой, так и поэтической. На контрасте с ним выступает российский поэт-эмигрант Александр Страхов, ныне покойный. Единственное представленное стихотворение «Лицо в толпе» демонстрирует художественную тактику поэта: четкое осознание себя, как художника в мире жестоком и материальном, конкретность образов, абсолютное соблюдение формы:
Что рядом кто-то есть, кому нужней оно.
Лишь с недавнего времени его поэзия, как и творчество многих других писателей эмигрантов, стало официально доступно для российских читателей. В номере также присутствует фрагмент биографического исследования Светланы Шнитман-МакМиллин о Георгии Владимове, которое уже вышло в серии ЖЗЛ в Редакции Елены Шубиной.
Как и принято, завершают номер подборки актуальных рецензий о современной литературе. Артём Пудов в статье «Фрагменты важного» обозревает отражение литературной действительности в журналах полулитературного и общенаучного характера. Среди рецензий также особый интерес у аудитории, увлечённой литературой толстых журналов и в частности критикой, может вызвать статья Бориса Кутенкова о новой книге Ирины Роднянской «Книжная сотня: Малоформатная литературная критика с приложением «Четырех векторов внимания»». Сборник включает в себя ранние статьи Ирины Бенционовны, что позволяет читателю убедиться в «пророческом» даре критика и даже проследить путь становления её индивидуального подхода к анализу литературного процесса.
Свой собственный критический взгляд выработан и у Ольги Балла, постоянного автора журнала «Знамя». Её колонка – это ряд кратких рецензий, объединённых одной тематикой. В майском номере читатель может ознакомиться с литературоведческими работами Сухбата Афлатуни, Веры Калмыковой и Василия Ширяева. Несмотря на научную направленность обозреваемых текстов, Ольге удаётся соединить поэтичность и метафоричность своего языка вместе с познавательным анализом.
Выпуск получился достаточно контрастным – прозвучало много имён молодых писателей и уже состоявшихся авторов. Два поколения, чьи взгляды имеют столько же точек соприкосновения, сколько и отличий, в общей сложности создают необходимую гармонию для полноценного читательского восприятия. Среди них встречаются, как писатели, избегающие «актуальных» тем в литературе и стремящиеся к вневременной художественности, так и поэты, творящие на злобу дня. Тем не менее, большая часть авторов уже знакома постоянным читателям журнала, многие начинали свой творческий путь на его страницах. «Знамя» в свою очередь, как отец большого семейства, рад повидаться со всеми своими детьми, какими бы разными они не были.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети