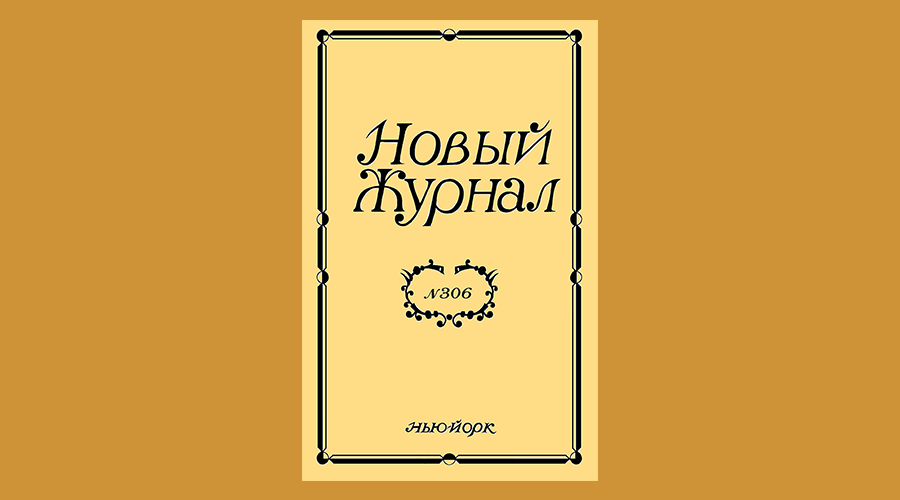«Новый журнал» № 306, 2022
Литературно-публицистический журнал русского зарубежья «Новый журнал» издается с 1942 года в Нью-Йорке. Выходит 4 раза в год. Журнал публикует повести и рассказы современных русских писателей зарубежья и России, современную русскую поэзию, неопубликованные произведения классиков русской литературы, историко-литературные труды, посвященные различным аспектам культурной и литературной истории России и русского зарубежья, включая большой корпус архивных документов (мемуаристика, эпистолярия и т. п.), статьи по проблемам теории литературы и русского языка, статьи, рецензии, интервью, посвященные современной русской литературе зарубежья, в том числе — ежеквартальные библиографические обзоры. Главной задачей журнала является сохранение и развитие традиций русской классической культуры в Зарубежье и обобщение опыта эмиграции. Авторами журнала были русские Нобелевские лауреаты И. Бунин, Б. Пастернак, А. Солженицын, И. Бродский, С. Алексиевич, а также поэты, прозаики, философы, художники и политические деятели: В. Набоков, Г. Адамович, Г. Иванов, Б. Зайцев, Б. Бахметев, А. Керенский, М. Добужинский (автор обложки НЖ), М. Алданов, М. Карпович, Р. Гуль, Ю. Иваск, И. Чиннов, В. Перелешин, И. Одоевцева, Н. Берберова, И. Елагин, О. Анстей, Н. Моршен, В. Синкевич, С. Максимов, Л. Ржевский, С. Голлербах, Г. Газданов, В. Варшавский, Ю. Терапиано, Г. Федотов, А. Шмеман, Д. Кленовский, Н. Нароков, В. Завалишин, С. Максимов, Н. Ульянов, В. Шаламов и др. Среди современных авторов журнала поэты и прозаики: Д. Бобышев, Ю. Алешковский, С. Соколов, В. Гандельсман, Б. Кенжеев, М. Гарбер, А. Иванов, И. Гельбах, Н. Браун, В. Батшев, К. Капович, др.; слависты А. Арсеньев, Ж. Шерон, О. Матич, Р. Герра, Е. Дубровина, М. Рубинс, В. Хазан, П. Базанов, М. Уральский и др. «Новый журнал» уже почти восемь десятилетий достойно представляет Зарубежную Россию, отстаивая высочайшие завоевания русской культуры.
Марина Адамович - главный редактор. Редакционная коллегия: Мария Рубинс (Франция), Марина Гарбер (США), Владимир фон Цуриков (США), Елена Дубровина (США). Редакция: ответственный секретарь – Наталья Бернадская; редакторы – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман.
Эмоции и смыслы
Главная проза номера – пожалуй, «Разочарованный странник» Владимира Гржонко.
Наше прошлое, личное и неповторимое, и прошлое нашей страны (а попросту – её история) – оба прошедших времени находятся у нас за плечами, как некие невидимые распахнутые крылья. Мы бы рады оглянуться и рассмотреть каждое перышко. Но мы летим вперёд, и никогда – назад. А прошлое – манит, и прошлое – то, что мы единственно можем осмыслить, рассмотреть – не глазами, нет: закрыв глаза, лишь чувством, – а ведь чувства у каждого – свои собственные.
Поэтому объективного, сиречь правдивого, изображения прошлого нет и быть не может. Есть только его интерпретация, вариация.
Такова повесть Владимира Гржонко. Уже название повести – парафраз, перефразированный лесковский «Очарованный странник». И аллюзий тут множество, а каждая – литературный подарок. Нечистая сила – помните Гоголя? Бомбисты – помните Достоевского? А Гейдельберг почему-то вызывает ассоциации с Марбургом сразу двух гениев – и Михаила Ломоносова, и Бориса Пастернака... Этими тропами на протяжении всего текста, художественно плотного и сюжетно-увлекательного, мы пойдем по земле русской литературы, на пути встречая и Льва Толстого («– Вы в Люцерн?..»), и «Крысолова» Марины Цветаевой...
«Александр Яковлевич пожал плечами и направился в сторону вокзала. Тем не менее он продолжал испытывать к этому неуклюжему субъекту странную симпатию. И нищий, словно понимая это, заторопился вслед за ним, неловко семеня длинными ногами.
– Гамельнский флейтист время от времени продолжает появляться до сих пор. Молодая красивая жена господина Абрахамсона ушла за ним. Я даже подозреваю, что и у окна она сидела как раз для того, чтобы не пропустить появление этого самого Флейтиста…
Нищий искоса взглянул на Александра Яковлевича и комично замахал руками.
– Я опять не о том! Так вот, если подумать, как могло случиться, что дети вдруг взяли и все вместе покинули город? Какая сила могла это сделать?».
Рассказы Сергея Зельдина – блестяще-отточенные, неповторимо-стильные: его стиль лаконичен, остроумен, изобилует точными подробностями; в то же время автор постоянно держит в поле писательского зрения тот образный магнит, что притягивает к себе все детали повествования:
«Николай лежал на топчане, подложив под голову оранжевую каску, укутав ноги тряпьем, пускал дым колечками. Он испытывал нечто, похожее на счастье. Он думал… А впрочем, ни о чем он не думал… Так… О том опустившемся чиновнике из «Жизни Арсеньева», просившего в трактире на водку… Благородный юноша спрашивает: «Как же вы живете? Ведь это ужасно, ужасно так жить!..» – А тот: «Ничего ужасного, милостивый сударь, ровно ничего!»…
Бунин… Лика… Николай слабо хмыкнул и заснул до пяти утра».
Нина Горланова и Вячеслав Букур показывают в «Новом Журнале» работу «Пермские побывальщины». Побывальщины – это и документальность, и художество, и побасёнки, и констатация факта, который внезапно становится символом-знаком. Пожалуй, такой синтез и есть отличительная черта этой прозы, созданной в ансамбле – творческое супружество тут как крепкая упряжка, и оба автора терпеливо волокут по дороге времени литературный воз, а там – нам, читателям – лежат воистину царские подарки:
«Сима отвязала от колонны в кафе гроздь белых шариков с гелием и прикрепила ее к нижней ветви клена, известного всем дальнобойщикам. Люди приезжали на тракторах К-700, про которые думали, что они уже давно рассыпались в металлолом, а также на «победах», велосипедах и даже на лошадях с соседнего ипподрома.
Пришел с ближайшего хутора фермер по фамилии Пчелинцев, он разводил страусов. Тоже одноклассник Василия, между прочим. Был Пчелинцев в белом костюме – как будто весь собран из живых быстрых макарон. И два ведра страусиных жареных стейков мгновенно нашли место среди пирующих. (...)».
И настоящее собрание драгоценностей – в этом номере – поэзия: её самоцветные россыпи слепят, её ароматы дурманят, её вино пьянит, погружая в видения иных миров, библейских солнц. Евгений Чигрин, чей поэтический вектор – скорее живопись, чем слово, тем не менее именно в слове, в великолепии Логоса, показывает нам доселе сокрытые его чудеса:
Ни галерей, ни зрителей здесь нет.
Апологет живописи и живописности, Чигрин делает живопись (художника) героем стихотворного сюжета; а ещё его безумно привлекает всяческая потусторонность, те существа, что в Германии зовутся Fabeltiere (сказочные животные): он, по-босховски, по-средневековому, населяет ими плоть своих стихов, и они живут внутри стиха как лейтобразы, лейттемы, незаметно выхватывая у автора из властных рук бразды поэтического правления и начиная самоуправствовать и даже бесчинствовать:
В полушарии правом кого-то молиться ведут (...)
Михаил Юдовский тоже засматривает глубоко во времена, в те самые – библейские, Евангельские, баснословные, кровавыми знаками в людской памяти прочерченные; и он видит людей в тех канувших в вечность временах, и подмечает в них, далёких, давно ушедших с лика земли, лишь живое, лишь неубиваемо-человеческое:
а один, молодой, наклонился и гладит кошку.
Емельян Марков – своеобразный поэтический импрессионист, он пребывает в погоне за впечатлением, за драгоценной ежесекундностью; и, конечно, всякий поэт – сам себе философ, а значит, и перед нами всеми он выступает в роли нового толкователя непознаваемого мира:
Вращения Земли.
Елена Литинская обращается к скорби и памяти. Память ушедшего любимого; память невытравимой печали. (Вспомним ахматовское: «Всего прочнее на земле – печаль...»). Печаль сродни или отчаянию, или тяжкой, почти бессмертной, спокойной поступи похоронного марша Бетховена ли, Шопена, или фиксируется почти объективными письменами; субъективного здесь, именно здесь – лишь гвоздь, когда-то забитый в гроб, где лежал родной человек, и пронзивший навылет всё сразу – жизнь, любовь, надежду:
вызов голове моей седой.
А вот вечная русская пирушка – да что там, в любой стране, в любом народе такая же!.. – в стихах Сергея Золотарева. (И вот Пастернака вспомнила: «И наши вечера – прощанья, / Пирушки наши – завещанья, / Чтоб тайная струя страданья / Согрела холод бытия...»). И да, мы прячемся от времени, от памяти за этими вечными вином и мушмулой...
во избежанье новых совпадений (...)
И опять, опять из проклятого времени – в не менее проклятую, отчаянную вечность смотрит Инна Кулишова:
горла его и его мошны.
Если ангелы Господни – ветеринары, то тогда мы точно звери; и звериное в нас, может статься, непобедимо, ибо мы плоть от плоти всегда живого, вечноживущей и вечно умирающей Природы. А если природа – тайный синоним Бога, тогда всё укладывается в гармоничную и вместе с тем трагическую концепцию Райского Сада.
и смотрят, как плачет земной их народ (...)
А вот Эмилия Песочина с удивительно жизнестойкой в русской культуре темою русского великого юродства, что порой благотворнее – и плодотворнее – всей умнейших начал и разумнейших институций:
Всяк мудрец изначально юродив.
Владимир Яськов пребывает в культовом, почти молитвенном пространстве культуры, свободным стилем плывет в необъятном море культуры, и это не мешает ему достигать эмоциональных высот, а сквозь могучие напластования культурных слоёв видеть единственность явления, духа, жеста:
и в нелюдимых сумерках растаять
И напоследок, в стиховых сокровищах-россыпях, – подборка Евгении Джен Барановой «Голубика»; встреча с поэтом – всегда радость и неожиданность, даже если это печаль и война:
но это не дорогое
Евгения удивительно умеет сочетать личное и широко-неохватное, сиюминутность, что колет больнее иглы, и время, что погружает тебя в бесконечное сновидение, то кошмарное, то праздничное; да, поэт сновидит, и он же – зеркало, он отражает время, действие, медитацию, народ, себя:
Я там была, где не был мой народ.
Обратимся к критике, публицистике, литературоведению номера. Елена Дубровина публикует исследование «Я странником пришел на краткий час…» (Владимир Диксон, 1900–1929, письма и стихи). Радует интересность и своеобразность этого текста – погружения в историю культуры ХХ века; Елена Дубровина соединяет здесь знаковые имена Сильвии Бич, Джеймса Джойса и русского поэта Владимира Диксона:
«Итак, авторство странного письма, хотя и подписанного «Вл. Диксон», Сильвия отдает самому Джойсу. Ясно было одно, если письмо написано Вл. Диксоном, то он, по всей вероятности, тщательно изучил стилистические приемы Джойса, сумел разгадать смысловое и экспрессивное значение его слова, ряд сложных словесных взаимоотношений, умело спародировал необычный язык писателя. Письмо настолько поразило Сильвию Бич, что она без сомнения включила его в подготовленный при участии Джойса сборник «Work in Progress». Сборник был издан в 1929 г. в Париже в ее издательстве «Шекспир и компания».
Однако именно с этого момента и начинается загадка адресанта. Была ли Сильвия уверена, что письмо принадлежало именно Джойсу? А если нет, то кто же был на самом деле автором – молодой русский поэт Владимир Диксон или ирландский писатель Джеймс Джойс? (...)».
Лариса Вульфина погружает нас в жизнь художника Бориса Арцыбашева, в мир его дневников и писем, переписки художника с матерью. Эти тексты – потрясающее свидетельство неизбывной трагедии времени.
«Прошли мимо Азорских островов. <…> Сегодня канун Троицы. Освещенный заходящим солнцем, балансируя на качающейся палубе, митрополит говорил проповедь. Говорил он о Родине, о большевиках, о своей вере в торжество справедливости… Его борода, как и кучка людей на палубе, и весь пароход были красными в красном свете… В чудовищном, немыслимо большом океане ползет кораблик. <…> Горсточка людей хочет переплыть океан. На их родине рухнуло всё, что казалось необходимым как воздух и незыблемым. Рухнуло! (...)».
Ирина Кочергина представляет вниманию читателя статью «Эмигрантские публикации Ю.И. Айхенвальда о С.А. Толстой и толстовцах». Все, что связано с именем Льва Николаевича Толстого, бесценно, и тем важнее эта публикация для читающей России:
«Находясь в эмиграции, критик (Ю.И. Айхенвальд. - Е.К.) часто обращается и к личности Толстого, и к его произведениям. Так, в своем цикле эссе «Дай, оглянусь…», печатавшемся в рижской газете «Сегодня», он рассказывает о первом знакомстве с писателем; в своих газетных публикациях критик отзывается на годовщины смерти Толстого, пишет о новых изданиях его произведений. Однако особый интерес представляет его участие в полемике о С.А. Толстой и критические отзывы по поводу деятельности В.Г. Черткова (1854–1936), одного из вождей толстовства, издателя и редактора произведений писателя. (...)».
«Только любовь может научить любви», – так говорит Борис Чичибабин в письмах к Полине Брейтер, и Полина Брейтер счастливо публикует в журнале выдержки из этой переписки. Мы можем снова услышать голос бескомпромиссного, большого русского поэта, сумевшего, как никто другой, выразить безмерный трагизм собственной эпохи. Больные, болезненные вопросы нравственности, выбора пути, ответственности за душу живую, непомерный груз (несмотря на огромные крылья!) великой любви мучили поэта, бередили его всеобъемлющее сердце:
«…Читая Ваш страшный рассказ, я вдруг с новой силой и совершенно отчетливо, осознанно, ощутимо пережил, что не могу любить, и не только не могу, но и не хочу, <…> и не только не хочу, но и считаю аморальным, безнравственным, нерелигиозным любить вот этих, убивающих. Да, кстати, и к убиваемому у меня нет чувства любви: ведь и он такой же, как они, из их «кодла».
Вы скажете: а Христос? А я отвечу, как уже много раз отвечал: не знаю. Христос простил распинающих его, простил убийц – но, во-первых, только убитый, только убиваемый и может, и имеет право простить убийцу, не Вы, не я; а во-вторых, простить – значит ли полюбить? (...)».
А. Красильников пишет о неизвестных предках Александра Пушкина («Нас же больше интересует прапрапрадед Пушкина Родион Матвеевич. Головой московских стрельцов он стал после старшего брата. По сведениям из столбцов Белгородского стола Разрядного приказа, в августе 1675 года назначался в приказ к луцким и торопецким стрельцам, однако через полгода сломал ногу и «вследствие болезни» отправился назад в Москву. Окончательно в строй, видимо, не вернулся, ибо служил в полку князя Хованского и едва ли пережил бы известный стрелецкий бунт 1682 года, вошедший в историю под названием хованщина (...)», а Рита Джулиани - об «Образах Италии» Павла Муратова: «С точки зрения профессиональной, путешествие Муратова становится своего рода воспитательным романом: писатель возвращается из него зрелым и авторитетным искусствоведом. Путешествие становится лабораторией ученого, который апробирует в Италии свою компетентность, интуицию, вúдение искусства – и в контакте с шедеврами многих столетий вырабатывает собственную концепцию первоначал и эволюции художественных форм».
В.М. Зензинов со статьей «Иван Алексеевич Бунин» и Елена Кулен («Миссия честного историка», статья о С.П. Мельгунове (1879–1956) продолжают историческую линию журнала, направленную на полнокровное, эстетически богатое изображение «белых пятен» казалось бы, досконально изученной истории русской литературы и русской культуры – классических имен, известных явлений, знакомых с детства исторических событий. Видеть необычное в привычном – такова задача любого исследователя, и – шире – любого творческого человека, художника.
«Новый Журнал», как всегда, погружает читателя в атмосферу подлинной культуры и русской истории: и литературной истории, и истории искусств. Современная жизнь, с её немыслимыми скоростями и широким охватом информации, невольно тяготеет к винтажному неторопливому раздумью, к социальной и эстетической ретроспекции и культурной медитации. «Новый Журнал» выполняет основательную культурную миссию – не только познакомить с явлением, но и открыть его глубже и подробнее; не только обозначить смыслы, но и насытить их эмоцией, ибо чувство и есть настоящее художество.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети