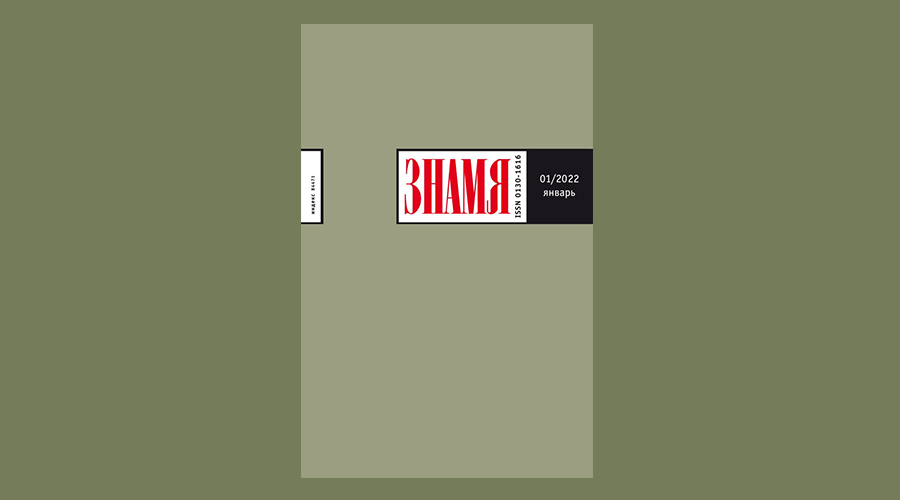«Знамя» № 1, 2022
Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Знамя» издается с 1931 года в Москве. Выходит 12 раз в год. Тираж 1300 экз. В журнале печатались А. Платонов, Ю. Тынянов, А. Твардовский, В. Некрасов, Ю. Казаков, К. Симонов, Ю. Трифонов, П. Нилин, В. Астафьев, В. Шаламов, Б. Окуджава, Ф. Искандер, Л. Петрушевская, В. Маканин, Г. Владимов, Ю. Давыдов, В. Аксенов, В. Войнович и многие другие талантливые писатели.
Сергей Чупринин (главный редактор), Наталья Иванова (первый заместитель главного редактора), Елена Холмогорова (ответственный секретарь, зав. отделом прозы), Ольга Балла (Гертман) (заведующая отделом публицистики и библиографии), Ольга Ермолаева (отдел поэзии), Станислав Вячеславович Секретов (заведующий отделом «общество и культура»), Людмила Балова (исполнительный директор), Марина Гась (бухгалтер), Евгения Бирюкова (допечатная подготовка, производство), Марина Сотникова (заведующая редакцией, распространение).
«Люблю я родину, но странною любовью…». Патриотизм без хрестоматийного глянца
«Знамя» – литературно-художественный и научно-публицистический журнал умеренно консервативной направленности. Художественные публикации журнала ориентированы на классику, а научные публикации академически выверены, академически безупречны.
В целом же «Знамя» – журнал, который с советских времён по нынешнее время ориентирован не на злобу дня, а на непреходящие ценности. В противовес литературной или политической моде «Знамени» присущ здоровый консерватизм.
В наши дни журнал «Знамя» сохраняет свои традиции. В журнале публикуется художественная литература, которая способна в той или иной степени претендовать на статус современной классики, и литературная критика, которая вырабатывает классическое мерило современной прозы и поэзии.
Основные темы 1-го выпуска «Знамени» за 2022 год: родина и чужбина (Катя Капович «Чёрный пояс», рассказ, и др.), современный россиянин и его среда обитания (Алексей Слаповский «Страж порядка», рассказ, Максим Осипов «Покуда», рассказ, и др.), религия и социум (Михаил Тяжев «День археолога», рассказ, и др.).
Основные публикации 1-го выпуска «Знамени» за нынешний год: Геннадий Гандлевский «Два стихотворения», Алексей Слаповский «Страж порядка. История болезни», повесть, Геннадий Русаков «Прошла пора моих военкоматов…», стихи, Максим Осипов «Покуда», рассказ, Алексей Цветков «О бесконечности вселенной и мирах», стихи, Владимир Гандельсман «Автограф лётчика», стихи, Катя Капович «Чёрный пояс», рассказ, Юрий Левитанский, Семён Гудзенко, Ольга Гудзенко «Судьба нас разлучила», письма и телеграммы, Анна Кознова «У истоков «Городка писателей» в Переделкине».
В художественной рубрике журнала, формально не озаглавленной, но выраженной композиционно, опубликованы стихи признанных знаменитостей (а не просто хороших поэтов). Так, 1-ый выпуск журнала «Знамя» за нынешний год открывает минимальная подборка Сергея Гандлевского «Два стихотворения». Гандлевский, поэт эпохально значимый, известный читающей публике, в 1970-ые годы наряду с А. Цветковым, А. Сопровским, Б. Кенжеевым входил в группу «Московское время».
Гандлевский фактически позиционирует себя как современный классик (имея на то веские основания). Причём показательно не то, как Гандлевский себя оценивает, а то, как он себя подаёт. Разница принципиальная!
Гандлевский не заявляет о себе напрямую в позитивном ключе, однако осанку опытного мэтра выдаёт точная, но изысканная рифма, которой пользуется Гандлевский. Точные рифмы часто банальны – например, любовь-кровь, набившие оскомину поэтам и читателям (хотя и хрестоматийные рифмы могут быть реанимированы неординарным словоупотреблением). В противоположность гладким банальностям существуют намеренно «рваные», неточные рифмы, где в различных словоформах совпадает лишь часть звуков – например, об ангеле – заставили (у Цветаевой). Гандлевский идёт третьим путём, путём литературно искушённого стихотворца, который подаёт читателю ранее неслыханную, но при всём том, безупречно точную рифму – например, фотоальбома-идиома или зарю – сорю. Лёгкие различия звуков [c] и [з] не мешают Гандлевскому быть изысканно точным. Рифмовке Гандлевского нередко соответствует ясная и чуть парадоксальная мысль. (Означенные качества стиха обнаруживаем также у Ахмадулиной и Евтушенко – поэтов, прошедших литературную выучку в Литературном институте имени Горького). Будучи фонетически и словесно изобретательным, Гандлевский создаёт свой литературный автопортрет, который вписывается в привычный отечественный ландшафт.
Поэт то иносказательно, то явно говорит о протекших годах и о своей внутренней зрелости на отечественном фоне; в стихотворении «Не лыком шит…» он пишет:
Я отвалю тебе полцарства…
Формально о возрасте поэта ничего не говорится, но перед читателем является возрастная психология личности, чья история по значению приравнивается к истории страны. Вокзал и цыганка – это старо как мир и укоренено в истории России. К ней напрямую причастен и поэт.
Однако он поставлен выше цыганки, которая способна музицировать и, значит, соревноваться с поэтом. Однако он побеждает:
про невечернюю зарю.
Исчадие вокзала выступает не просто в качестве человека, но в качестве исторической сущности, которую одолевает иная, эстетическая сущность. Она приравнивается к невечерней заре – такому состоянию личности и такому состоянию космоса, в котором, быть может, противоречиво едины юность и зрелость.
В другом стихотворении Гандлевского («Я роняю папиросы…»), также содержащем его литературный автопортрет, почтенный возраст автора явлен в смысловом ракурсе некоего художественного всезнания. Причём речь идёт даже не столько об энциклопедизме, свойстве учёного, сколько о некоей неземной опытности, свойстве поэта. Оно-то и позволяет Гандлевскому порой пускаться в некие эстетические капризы или изыски, они возникают как раз там, где поэту всё наперёд известно и он даже может позволить себе немножко поиграть словами:
грустная цитата.
Наряду с Гандлевским в «Знамени» опубликован другой поэт из группы «Московское время» – известный в России и за рубежом Алексей Цветков. Его авторству принадлежит подборка «о бесконечности вселенной и мирах». Как и Гандлевский, Цветков (также отнюдь не без оснований) являет себя читателю в статусе признанного мэтра. Подобно Гандлевскому своё самоощущение современного классика Цветков выражает не в прямых высказываниях, а в строении своей поэтической вселенной. Её архаические пласты творчески органично сочетаются с авторским чувством современности, быть поэтически вездесущим и вместе с тем современным собственно и значит, быть живым классиком. Поэт пишет:
мысль о дальней отчизне владела умами
В строках Цветкова, изобилующих современными реалиями, сквозит интонация Иосифа Бродского – поэта, как бы вобравшего в себя множество поэтических школ – от английской метафизической школы до цветаевской космологии. За современными реалиями у Алексея Цветкова угадывается всё то, что нёс человечеству Иосиф Бродский. Цветков местами несколько подражает ему, заимствует его вызывающе депрессивный элегический лад.
Он выражается в длинных повествовательных строках, написанных правильным метром, но с намеренной интонационной неровностью. В приведенных стихах Цветкова («когда приспело время…») воспроизводится ритмико-синтаксическая структура следующих строк Бродского: «Я не то, что сошёл с ума, но устал за лето. / За рубашкой в комод полезешь – и день потерян». Цветков заимствует у Бродского не только тип текста, тип высказывания, но также представление о своей лирической усталости как об усталости человечества и ветхости вселенной. Не случайно поэт говорит о некоем космическом путешествии, направленном от обветшалого мира к иным горизонтам… Обращённость в прошлое, присущая элегии, у Цветкова противоречиво сочетается не только с устремлённостью в будущее, но также с разговорными «словечками» на грани сленга («валить оттуда» и др.). Алексей Цветков манифестирует, что он принадлежит к избранному кругу поэтов в поэтическом созвездии, рассыпанном вокруг Бродского, признанного литературного светила, и поэтому Цветкову позволительны поэтические вольности.
В стихах Цветкова они сочетаются с трогательно старомодным вольномыслием в русле XVIII века. Литературно обыгрывая старомодный скепсис и придавая ему современное звучание, поэт пишет:
духовный борщ и ложка есть всегда
За нарочито упрощённой картиной блаженства следуют смешливо скептические тезисы:
кто верил в борщ но попадает в ад
В авторском контексте борщ не просто еда, но литературная эмблема упоения земной жизнью. Итак, Цветков показывает, что в ином мире карается не просто безнравственность, но житейская страстность, которая может и не содержать в себе ничего собственно безнравственного. Между тем, пока мы здесь, нас окружает посюстороннее бытие, – вот о чём недоуменно свидетельствует и вопрошает поэт. Нет необходимости специально добавлять, что поэтическая вольность не есть религиозная ересь, хотя бы уже потому что поэтическая фантазия существует в своей эстетической нише и не претендует на истину в последней инстанции.
В наше время, когда религия становится едва ли не модной (что едва ли идёт ей на пользу), стихи, где религия является в проблемном поле или в поле вопросов, едва ли вполне типичны.
Между тем, в 1-ом выпуске «Знамени» за нынешний год имеется ещё одна подборка стихов, содержащих признаки универсального сомнения. Иван Коновалов, автор подборки стихов «Пение и дым», пишет:
но не воскресал?
Далее авторская мысль движется от общего к частному:
стояло на кухне скромное угощенье –
Камерный фрагмент произведения существует для того, чтобы автор, как бы оттолкнувшись от частного, снова обратился бы к глобальным смыслам:
и сребренники считает впотьмах Иуда.
Стихотворение завершается элегической нотой, крупицы веры всё-таки не исчезают под натиском философского скепсиса, но приобретаю трогательно-рудиментарный смысл:
смотрю на сгоревший мир, что бывал волшебен.
В метрическом отношении стихи Коновалова вполне традиционны, однако классический метр в некоторых его стихах сочетается с почти прозаическими длинными строками. Авторской мысли становится периодами тесно в границах классического метра, например:
так стоит недостроенный, законсервированный коммунизм…
Помимо проблемных размышлений на религиозную тему стихи Коновалова содержат контрастную соотносительность неких первозданных лесов и технократической вселенной, вызванной к жизни компьютерной эпохой.
Поэт пишет:
белый дым, прозрачный воздух, виссон…
Храм и прозрачный воздух – мотивы, которые свидетельствуют: христианские ценности для Коновалова существуют, но существуют в некоем инобытии. С блаженным сном в стихах Коновалова контрастирует некая искусственно сконструированная реальность:
будто лес стоячий оплетены…
В стихах Коновалова присутствует элегическая нота: поэт всё же не отрицает религиозный идеал, но признавая его в принципе, не всегда видит его в реальной жизни, где священник гудит молитвы в уши московского интеллигента, а программист входит в искусственно сконструированную реальность, подчас далёкую от истинного бытия. И всё же в стихах Коновалова присутствует элегическая тоска по некой религиозной первозданности мира.
Параллельно стихам на религиозную тему, свободным от некоей заведомой «правильности», 1-ый выпуск «Знамени» за нынешний год содержит рассказ Михаила Тяжева «День археолога», где в художественно иносказательной форме порицается клерикальное кликушество.
В рассказе описан человек, занимающий видное место в системе МВД. Его жена обнаруживает особую религиозность, против которой муж не возражает (хотя сам не является активно церковным человеком). Светский муж не только не противится религиозности жены, но идёт навстречу её устремлениям – регулярно отвозит её на машине в храм, где служит батюшка, почитаемый героиней рассказа. (Между тем расстояние от дома супругов до храма внушительно).
Трагическая завязка рассказа наступает тогда, когда жена не довольствуется частыми поездками в храм, но выказывает горячее желание при живом муже уйти в монастырь. И священник не только не препятствует её замыслу, но убеждает мужа пойти навстречу намеренью жены принять постриг. Однако он попросту отказывается отпустить её насовсем, несмотря на увещевания батюшки.
В результате разгневанная жена убегает из дома в неизвестном направлении и когда растерянный муж едет её искать в отдалённый приход, священник фактически уходит от прямого разговора с мужем той, что бесследно исчезла. Молчание священника – деталь рассказа психологически и религиозно не вполне мотивированная. Если священник имеет радикальное убеждение в том, что героине рассказа следует уйти в монастырь, непонятно чем вызвано последующее «умывание рук» с его стороны. Если он последователен в своей готовности благословить женщину на постриг, он мог бы, например, порицать полицейского за то, что тот противился воле жены, и вот чем это кончилось. При желании, уклончивую позицию священника можно растолковать как скрытый упрёк полицейскому и одновременно проявление скрытого сострадания несчастному мужу. Однако из рассказа всё же никак не следует, что священник реагирует на трагедию главного героя внутренне активно, а не просто апатично.
Не получив от священника ни утешения, ни порицания (что по-прежнему странно) полицейский в соответствии со своей профессией вынужден вести детективное расследование того, что произошло (или не произошло) с его собственной женой. Если она попалась предполагаемым злодеям (что не доказано), то перед полицейским является трагическая нравственная дилемма: лично мстить этим гипотетическим злодеям, пользуясь служебным положением, или ввиду большого горя забыть о мести. Отправив кого-то за решётку, жестоко наказав посторонних людей, жену всё равно не вернёшь, если конечно худшие предположения мужа вообще верны. В рассказе как художественном произведении (а не просто религиозном трактате, принявшем беллетризированную форму) нравственные переживания полицейского слабо выражены, и поиски возможных преступников показаны почти исключительно сюжетно, что говорит о некоторой художественной неполноте рассказа. Однако при его анализе трудно ограничиться лишь литературоведческими репликами. Ведь речь идёт о религиозной трагедии…
«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – говорится в Евангелии от Матфея (19; 4–6). Едва ли Церковь, основанная на Евангелие, может благословить жену на постриг без согласия мужа. Вопрос не в том, что считает по поводу разделения супругов из благих побуждений обозреватель журнала, а в том, какова устоявшееся веками каноническая практика христианской Церкви. Супругам разрешается расходиться по монастырям лишь в случае их взаимного согласия на постриг. И тогда семья, перестав существовать физически буквально, продолжает существовать в мистическом смысле. Не случайно, что в православии День святых Петра и Февронии, которые в конце жизни приняли постриг, одновременно считается Днём семьи (а скажем, не Днём аскета). Можем ли мы себе представить, чтобы Пётр противился намерению Февронии принять постриг и она бы убежала от мужа (тем самым ему фактически отомстив)? Или подобное предположение было бы попросту кощунственным (а не только совершенно невозможным)? Едва ли нарушение христианского мира в семье, пусть даже во имя пострига одного из супругов, вообще является христианским поступком.
Объективный смысл рассказа «День археолога» (название рассказа условно) заключается в том, что церковное рвение не по разуму не всегда богоугодно. И не всегда оно хорошо заканчивается.
В безымянной рубрике журнала, где публикуется поэзия и проза, помещена также подборка стихов Владимира Гандельсмана «Автограф лётчика». Если Коновалов стремится создать поэзию новой, компьютерной эпохи, то Гандельсман, подобно Гандлевскому и Цветкову, обнаруживает в своей поэзии ретроспективное начало. Он объемлет мыслью то, что было создано мировой культурой до него, и вместе с тем приводит мировой опыт минувшего в соответствие с современностью. Тем не менее, Гандельсман творчески осознаёт себя, прежде всего, в ценностном поле мировой культуры и мировой поэзии, а уж во вторую очередь соотносит себя непосредственно с нынешней злобой дня. Он скорее отдаёт литературную дань сегодняшнему дню, нежели живёт в нём. В стихах Гандельсмана мы имеем дело с современными модификациями мировой классики, а не собственно с чаяньями и проблемами нашего времени.
Многие стихи Гандельсмана – это стихи о стихах, ранее написанных другими авторами. В стихотворении «По́лки» читаем:
бегло с листа играет легко и чисто.
Очевидно, что перед нами литературный намёк на пушкинский десятитомник и перифраза пушкинских строк о заре из «Медного всадника». Менее очевидно то, что поэт, говоря о поэте, всё же не становится литературоведом, поскольку акцентирует в пушкинском феномене личностное начало, а не текстуальные факты.
Описывая свою библиотеку в стихотворении «Городок», Пушкин провозглашает: «Друзья мне мертвецы, / Парнасские жрецы». Тем самым Пушкин поэтически воскрешает и вводит в свою эпоху – а значит, модернизирует – авторов, живших задолго до него. Сходным путём идёт Гандельсман, по существу превращая Пушкина не столько в совокупность читаемых текстов, сколько в своего собеседника и хочется добавить, в своего современника. Не случайно у Гандельсмана употребительны глаголы настоящего времени: «бегло с листа играет» и др. Поэт скорее отвечает на вопрос о том, чем бы Пушкин занимался сейчас, нежели проводит последовательную научную реконструкцию пушкинской поры.
В подборке Гандельсмана имеется также «Элегия Марселю Прусту». Поэт пишет:
осиянный шиповника куст…
Гандельсман выстраивает своего рода поэтический гербарий, в котором пленительные частности – например, лепесток на губах – таинственно связаны с величественным ходом всего мироздания.
Подобно Алексею Цветкову, современному продолжателю Бродского, Владимир Гандельсман позиционирует себя в контексте мировой литературы, однако, введённой в сегодняшний день.
Поэзии Цветкова и Гандельсмана по смыслу соответствует проза журнала «Знамя», посвящённая судьбам интеллигентов гуманитариев. Так, в 1-ом выпуске «Знамени» за этот год опубликован шуточный и вместе с тем трагедийный рассказ Максима Осипова «Покуда», посвящённый крупному гуманитарию, заведующему кафедрой древних языков и культур в одном из уважаемых вузов. Карнавальный ад учёного начинается там, где он сталкивается с современной общественной злобой дня, буквально вторгшейся в его отрешённый от общественных дрязг устойчивый миропорядок. «Ад был устроен так просто, что создавал убедительное ощущение подлинности, абсолютной правды: голое сознание, заточённое в себе самом навсегда» – пишет Осипов (с. 101).
Рассказ содержит интригующую сюжетную завязку: один из сотрудников кафедры, возглавляемой всё тем же крупным гуманитарием, включается в оппозиционную политическую деятельность, что приводит заведующего кафедрой к трагической (или всё-таки трагикомической?) апории. Уволив своего сотрудника (в профессиональном отношении вполне полноценного), заведующий вынужден совершить некоторое предательство. Более того, если бы сотрудник занимался не протестной общественной деятельностью, а чем-то явно зазорным – например, воровал бы серебряные ложки, обнародовать этот факт в научной среде с соответствующими оргвыводами значило бы публично заниматься доносительством – делом едва ли благородным. С другой же стороны, не увольняя своего сотрудника, заведующий кафедрой не только рискует получить на свою голову неприятности (понятно какие), но, прежде всего, становится вынужденным изменить себе, изменить своему отрешённому от политики миропорядку. Понятно, что, не изгнав своего сотрудника из научного сообщества, заведующей кафедрой как бы солидаризировался бы с политической оппозицией, что изначально не входило в планы почтенного пожилого человека, посвящающего жизнь чистой науке. Особая тонкость рассказа заключается как раз в том, что упомянутый пожилой человек (терять ему особо нечего) не столько боится внешних неприятностей от власть предержащих, сколько опасается изменить себе же… Вопрос не в том, что профессор просто боится «полететь» с кафедры… А вот его подопечный стоит перед суровым выбором.
«– «Благословенны дни, когда можно было сочетать преподавание в высшей школе с критикой власти, увы, миновали. Возвратятся ли они, вопрос отдельный и печальный»» – сетует в рассказе один из сотрудников кафедры (с. 105).
В результате, политического оппозиционера (его зовут Серёжа) всё-таки увольняют из высшей школы. И тот заканчивает эмиграцией. Будучи склонен к этическому парадоксу, Максим Осипов пишет, что Серёжа «повёл себя в истории со своим увольнением только по внешности по-христиански, приняв потерю любимой работы, а затем и родной страны только по видимости смиренно […]» (с. 106). По мысли автора этически двусмысленно не только политическое поведение заведующего кафедрой, но также политическое поведение его подопечного, который в свою очередь предстаёт у Осипова скорее в качестве интеллигента ренегата, нежели в качестве героя правдоискателя.
В 1-ом выпуске «Знамени» за нынешний год имеется ещё одно произведение прозы, также посвящённое профессору гуманитарию – это рассказ Кати Капович «Чёрный пояс».
В рассказе Капович значимо, быть может, не столько действие как таковое, сколько литературный портрет профессора. В рассказе изображён специалист по эпохе Ивана Грозного, который определённый период своей жизни работал в Америке. Учитывая, что Америка – англоязычная страна, а значит, страна, всё-таки приобщённая к европейскому опыту (при всей своей географической самостоятельности), присутствие знатока русской истории в контексте зарубежья в свою очередь личностно симптоматично. Без Европы и Америки профессор был бы лишён некоего международного кругозора и международного статуса, а без России ему бы, возможно, не хватало бы внутренней почвы. Обаятельная чудаковатость профессора вызвана тем, что он равно нуждается и в зарубежном интеллектуальном опыте, и в отечественной почве. Некоторое раздвоение влечёт за собой социальные мытарства профессора – прежде всего, отчаянные поиски работы, описанные Катей Капович в контексте жёсткой американской прагматики. Кому в Америке нужен специалист по Ивану Грозному?
Согласно сюжету рассказа, профессор после долгих поисков работы, наконец, устраивается в некоторую корпорацию. В рассказе с художественным остроумием показано как там ждут нового начальника, который (по слухам и отзывам) едва ли станет для сотрудников корпорации хорошим подарком. Особо остроумный повествовательный приём Кати Капович состоит в том, что начальник самодур сначала является в разговорах своих будущих подчинённых (так что читатель может составить о нём предварительное представление), а затем является в рассказе собственной персоной.
Рассказ Кати Капович написан в значительной степени по новеллистическому принципу, предполагающему и относительную множественность сюжетных линий, и главное, неожиданную развязку. Так, развязка рассказа Капович «Чёрный пояс» связана с его основным действием лишь ассоциативно. В развязке упоминается то, как профессор, помолившись, решил одну из своих жизненно насущных проблем. Когда профессор рассказал об этом жене, та подражая старухе из пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке», принялась сетовать: де профессор, мог бы попросить у Абсолюта чего-то большего. Между тем, профессор в отличие от собственной жены, относится к Абсолюту и Божественной вселенной творчески бескорыстно (а не потребительски).
Финал рассказа, в котором выясняются психические и ментальные различия между профессором и его женой, сюжетно и по смыслу относительно самостоятелен на фоне художественного целого.
С некоторой парадоксальностью рассказов об учёных, принадлежащих авторству Михаила Осипова или авторству Кати Капович, согласуется доля намеренной странности в стихах Геннадия Русакова «Прошла пора моих военкоматов…».
Так, в стихах Русакова патриотические ноты являются несколько парадоксально – не столько благодаря позитивным качествам жизни в России, сколько вопреки провинциальной скуке, которую автор ощущает в отечественном ландшафте. Русаков пишет:
соберу барахло и уеду!
Автор продолжает живописать провинциальную дикость едва ли не в гоголевских сатирических тонах:
с мусорами, палёною водкой…
Однако является неожиданный лирический финал:
не держа за душою обиды.
Стихи Русакова композиционно сгруппированы по принципу стансов – относительно самостоятельных тематически и по смыслу лирических фрагментов целого.
Как указывает биографическая справка, Русаков родился в 1938 году и воспитывался в Суворовском военном училище, а позднее обучался в Литературном институте. Подобно Гандлевскому Русаков не чужд лирической рефлексии как по поводу своего прошлого, так и по поводу прошлого страны.
– Прости, Господь, неровно сердце билось…
Очевидно, лирический персонаж Русакова отчитывается перед вечностью не за свою физиологию, а за свои сердечные отклики на события в стране, от которой неотъемлема жизнь поэта. Стихи Гандлевского и Русакова содержат элегическую ретроспективу жизни страны.
С различными величинами прошлого в «Знамени» контрастно взаимодействуют параметры настоящего и будущего. Так, в 1-ом выпуске журнала за нынешний год имеются публикации, специально посвящённые вопросу о том, каково возможное будущее русской литературы. Например, в рубрике «Конференц-зал» имеется коллективная публикация «Прорицатель». Почётные гости редакции отвечают на два взаимосвязанных вопроса: 1) какой им представляется новая литературная эпоха; 2) как им видится будущее журнала «Знамя»? Степан Гаврилов утверждает, что новая эпоха будет сопровождаться поисками новых художественных языков, однако роль «Знамени» заключается не в том, чтобы идти за литературной модой, а, напротив, в том, чтобы сохранять уже существующие литературные традиции. С Гавриловым единодушен Константин Комаров, который предписывает «Знамени» литературный консерватизм. Однако в отличие от Гаврилова Комаров видит новую литературную эпоху не в поиске новых форм, а в постановке глобальных религиозных и философских вопросов. Саша Николаенко в отличие от Гаврилова и Комарова критически воспринимает современность, говорит о небоскрёбах, царапающих небо, и усматривает в существовании «Знамени» своего рода убежище от сиюминутной суеты мира. Николай Подосокорский утверждает, что литературу порождает, в конечном счёте, не текст, а личности и события, по отношению к которым тот или иной художественный язык вторичен. Будучи радикален в своём взгляде на будущее русской литературы, Подосокорский предписывает «Знамени» формирование своей уникальной эстетической и мировоззренческой платформы. Параллельно Подосокорский сетует на то, что в разных толстых журналах печатаются примерно одни и те же авторы и настаивает на том, чтобы «Знамя» обрело своё лицо на некоем среднестатистическом фоне. С Подосокорским отчасти солидарен Булат Ханов, который считает, что новую литературу рождают эпохальные события. Однако в отличие от Подосокорского и в русле Гаврилова и Комарова Ханов призывает «Знамя» быть оплотом традиционализма, свободным от литературной моды. Вячеслав Ставецкий мыслит новую литературу в плюралистическом ключе и призывает «Знамя» быть мостом, а не берегом – координировать различные типы литературных культур. Михаил Турбин ещё более радикально высказывается о новой литературе в плюралистическом русле и, однако, предписывает «Знамени» роль классического эталона на фоне различных литературных мод. Александр Чанцев настаивает на том, что в литературе нужны радикально новые формы, мечтает об авторе, который создаст пробивной роман, однако и Чанцев подобно Турбину считает, что «Знамя» должно оставаться оплотом традиционализма в литературе. Так, в частности Чанцев рекомендует редколлегии «Знамени» публиковать в журнале литературоведческие статьи о русской и зарубежной классике, чтобы классические литературные образцы всё-таки не забывались на фоне современности.
К анкете журнала «Знамя» по смыслу примыкает статья Натальи Борисенко «В режиме реального времени. Коронаяз в массовой литературе» (рубрика «Русский язык: новости»). Борисенко свидетельствует о том, что в период коронавируса в русскую литературу хлынули новые слова – пандемия, ковид и др. Задаваясь вопросом о том, создадут ли эти и подобные слова новую литературную эпоху, Борисенко склонна к скепсису. Она утверждает, что искусственные слова ушли вместе с коронавирусом, который по счастью преодолён, и литературу в дальнейшем будут подпитывать не какие-то надуманные новшества, а традиционные ценности.
Напрашивается проблемный комментарий: разумеется, литература не живёт медицинскими терминами и узко физиологическими темами, однако в силу смежности и взаимосвязи различных явлений мира, новояз, даже исчезнув в будущем, может стимулировать какие-либо эпохальные новшества в литературе. Борисенко лингвист. С лингвистической (словарной) точки зрения появление и смерть каких-то искусственных и маргинальных лексем есть факт непреложный. Однако если мы говорим не о речи, а о её постоянных спутниках – мышлении и культуре, то с Борисенко можно немножко и поспорить. Например, слово фортеция (вместо крепость), слово, вызванное к жизни петровской европеизацией русской культуры, практически исчезло из русского языка, не привилось в нём. Однако со временем исчезнув из живого словаря, упомянутое слово, быть может, повлияло на русскую ментальность и русский язык. Слово фортеция ушло, а его влияние на умы осталось. Не простимулирует ли и нынешний новояз те или иные процессы в новой литературе (не обязательно только позитивные)?
В проблемное поле коллективной публикации «Прорицатель» и статьи Натальи Борисенко «Коронояз» вписывается собственно художественная публикация журнала – повесть Алексея Слаповского «Страж порядка. История болезни». Подзаголовок повести симптоматичен. Испытывая негативный жизненный опыт, главный герой повести в нравственном смысле заболевает и принимается (с большим или скорее меньшим успехом) мстить окружающему миру за его тотальное несовершенство. Повесть начинается тем, как у главного героя умирает мать. Это трагическое событие дополнительно сопровождается тягостными житейскими обстоятельствами. Автор художественно остроумно показывает, как перед лицом вечности и смерти ведётся мелочный торг, неизбежно сопровождающий похороны. Слаповский пишет (с. 12): «Крест поставят стандартный, деревянный, но можно сразу основательный, гранитный, если доплатить. Осадку грунта учтем, будем поправлять, не волнуйтесь. Ограда тоже стандартная, быстро проржавеет, хоть и окрашенная, но можно чугунную, вечную, если доплатить». Неуместный финансовый рефрен понятен.
Житейский цинизм угнетает героя повести не только на кладбище. Например, он хочет превратить покупку цветов девушке в осмысленную поведенческую акцию, в подлинный мужской поступок, но выясняется, что различные размеры букетов скучно меряются различными суммами. Мелочный расчёт внутренне обессмысливает покупку букета. И цветы летят в урну!
На основании своего жизненного опыта главный герой становится мстителем, причём его карательная роль сюжетно согласуется с его работой охранником в разных торговых точках. Так, в частности охранник неуклонно выслеживает тех, кто под различными лукавыми предлогами нарушает масочный режим (действие повести происходит в период коронавируса). Функции охранника пунктирно связываются с ролью правдоискателя, наводящего в мире справедливость. Поневоле вспоминается лермонтовский Печорин, который вынужден «играть роль топора в руках судьбы». Эрих – так зовут персонажа Слаповского – совмещает в себе печоринские качества с качествами антигероя, существа странного, парадоксального и обитающего на периферии социума.
Эрих взращивает в себе различные преступные замыслы, которые по счастью не реализуются. Однако авторских мотивировок того, почему у Эрика дрогнула рука при попытке совершить то или иное злодеяние, не хватает. Или эти мотивировки в большинстве своём носят житейский, а не концептуальный характер – и значит, не являются художественно убедительными. Ещё более непонятно (не с житейской, а с художественной точки зрения), почему Эрик к счастью прекратил замышлять смертоубийства и перешёл к мелкому сравнительно безобидному хулиганству.
Слаповский прибегает к многоходовому сюжету, включая в действие различные любовные истории Эрика. Сами по себе они остроумны и поучительны, однако они не вполне иллюстрируют авторскую мысль о страже порядка, как об искателе всемирной справедливости. Так, в одном из своих романов Эрик имеет дело с кроткой и почти безответной женщиной. Она легко с ним соглашается. Однако – показывает автор – за соглашательством женщины угадывается её равнодушие к Эрику и тенденция его использовать в житейском смысле. У кроткой по видимости дамы имеется свой интерес… За тихим поведением героини скрываются острые зубки. Роман кончается плохо не только для него, но и для неё.
Многозначительно трагична и развязка повести в целом. Попутно в 1-ом выпуске журнала «Знамя» за этот год опубликован шуточный и вместе с тем трагедийный рассказ Елены Тулушевой «Никогда не ходите на встречу выпускников». Мысль автора, проиллюстрированная сюжетно, заключается в том, что человек в самом раннем возрасте совершает множество необратимых глупостей, полагая, что впереди целая жизнь и всё можно будет исправить. Однако со временем выясняется, что исправить уже ничего нельзя. Многочисленные ошибки прошлого подчас настолько тяготеют над человеком, что ему порой даже стыдно являться на встречу выпускников.
В то же время, как показывает автор, детство, школьные годы для всякого человека душевно святы, и мы все любим мысленно возвращаться в детство.
В рассказе сталкивается множество сюжетных линий, он несколько хаотичен по характеру повествования, но чрезвычайно ярок по характеру авторских впечатлений бытия.
Художественную рубрику «Знамени» завершает рассказ Дмитрия Прокофьева «Мундир генерала Галактионова. Из цикла «Рассказы старого партийца»». Рассказ построен на документальном материале. На примере Галактионова, видного человека, который при Сталине был гоним, но во время нашествия немецко-фашистских захватчиков реабилитирован самим же Сталиным как военный специалист, Прокофьев повествует об извечных превратностях и коловратностях судьбы.
К художественной рубрике журнала (не имеющей формального названия) прилагается значительный корпус литературоведческих и литературно-критических публикаций.
Так, в рубрике «Архив» имеется академически выверенная публикация Ирины Машковской и Леонида Гомберга. Вступление и комментарии Леонида Гомберга. Юрий Левитанский, Семен Гудзенко, Ольга Гудзенко «Судьба нас разлучила…». Письма и телеграммы 1945–1953 годов. Основной текстовый корпус публикации составляет переписка двух поэтов Ю. Левитанского и С. Гудзенко. Содержание переписки в немалой степени составляет литературный быт, но встречаются и отвлечённые суждения о литературе. Например, С. Гудзенко пишет Ю. Левитанскому (с. 155): «Тебя, брат, губит описательство без отношения к происходящему».
Рубрику «Архив» дополняет рубрика «Непрошедшее», также содержащая советское ретро. В «Непрошедшем» помещена публикация Анны Козновой «У истоков «Городка писателей» в Переделкине».
Анна Кознова излагает увлекательный и почти детективный исторический сюжет. История «Городка писателей», как показывает академически выверенная публикация, полна интриг. Так, Горький не одобрял создание писательского посёлка. Кознова пишет (с. 173): «В действительности Горький не одобрял идею создания отдельного города для писателей. 28 февраля 1933 года он напишет И.М. Гронскому длинное письмо (копия будет отправлена Сталину), значительная часть которого будет посвящена объяснению почему нельзя строить писательский городок: писатели будут оторваны от действительности, заняты бытом, «столкновением честолюбий», будут напрасно тратить время». Однако в силу своего рода «испорченного телефона», «Городок» начали строить под эгидой Горького и Сталина. Интрига продолжала развиваться. Несмотря на суровые времена, началось расхищение денег, выделенных государством на строительство писательского городка. Скандальная атмосфера вокруг Переделкино усиливалась литературной конкуренцией, некоторые писатели замышляли создать городок не для всех, а для избранных, для самых талантливых. Знаменитый прозаик Л.М. Леонов желчно писал (с. 176): «По этой линии не хватает только родильного дома, университета и домашнего крематория. Нелепица: мы приезжаем туда, чтобы работать, чтобы уединиться от людей, никого не видеть, а здесь из города будут приезжать в гостиницы (sic!). К 80 «гениям», которые будут там жить, приедут ещё 150 «гениев»…».
В итоге, как свидетельствует автор публикации, писательский посёлок всё-таки создаётся, однако наряду с творческой свободой он сулит своим счастливым обитателям нечто противоположное: участь постоянно находиться под скрытым наблюдением. В результате контроля, осуществляемого властью над жителями писательского посёлка, некоторых писателей арестовывают прямо на их дачах – эпически свидетельствует автор публикации.
К историко-литературным публикациям журнала относится и следующая публикация, помещённая в рубрике «Сюжет судьбы»: Надежда Шитова. «Бродские. Взгляд из соседней комнаты». Записал Михаил Иткин.
Упомянутая публикация носит не столько собственно научный, сколько мемуарный характер. Соседка Бродского по ленинградской квартире вспоминает о великом поэте. Как нормального советского человека (в оценочно нейтральном значении этого слова) Шитову и восхищает, и несколько коробит стиль бытового поведения Бродского. То, что Шитова была несколько шокирована встречами с поэтом, видно по впечатлениям от Бродского, которые акцентирует мемуаристка. Она указывает на то, как Бродский отзывался о своём ребёнке, рождённом по любви, но вне брака (с. 196): «Такой же рыжик, как и я!». В самом деле, называть себя и собственного ребёнка рыжиками, как называют определённый вид грибов, несколько легкомысленно. (Мемуаристку можно понять). Тот факт, что Бродский нигде официально не работал, также несколько смущает Шитову, привыкшую к иному обиходу и образу социального поведения. И всё же она отдаёт должное Бродскому, упоминая, например, о том, как она была в Америке. Не без доли законного хвастовства рассказав тамошнему таксисту о том, что видела самого Бродского, Шитова обнаружила, что таксист со значением заулыбался. И для него Бродский тоже далеко не пустой звук.
Завершают выпуск «Знамени» многочисленные рецензии и обзоры. Так, в рубрике «Переучёт» помещена публикация Кирилла Ямщикова «Грозовые вопросы небесной архитектуры. К материалам о 200-летии Ф.М. Достоевского в периодике 2021 года». Публикация, как свидетельствует название, содержит рецензии на статьи, приуроченные к году Достоевского. Ямщиков рецензирует работу Леонида Карасева «Достоевский и фракталы», помещённую в январском номере «Нового мира». Критик замечает, что Карасёв занимается подробным анатомированием «Преступления и наказания» и совершает интересные находки. Затем в поле зрения Ямщикова попадает статья Барри Шера «Достоевский и евреи», помещённая в апрельском номере «Крещатика». Ямщиков утверждает, что Шер достраивает нечто такое, чего Достоевский не договаривает. В целом же Ямшиков пишет о теме «Достоевский и евреи» как о вечной теме, размышления о которой ведут «к трезвому, но, пожалуй, не слишком утешительному выводу» (с. 217).
Далее в публикации сообщается (там же): «Майский же номер «НЛО» предлагает нам рецензию иного рода – текст Виктора Дмитриева об очередной биографии Достоевского авторства Томаса Марулло». Перед нами по существу рецензия на рецензию, обзор статьи о книге. Ямщиков соглашается с Дмитриевым в том, что книга Марулло, при своей увлекательности, полна произвольных и спорных допущений и в то же время перекличек с другими трудами о Достоевском, на которые Марулло почему-то не ссылается. Ямщиков вслед за Дмитриевым находит труд Марулло академически не добросовестным (по крайней мере, местами).
Затем отчётливо позитивно упоминается работа Кайдаш-Лакшиной «Боярыня Морозова», опубликованная в июньском номере журнала «Звезда». Ямщиков хвалит работу Лакшиной за редкое сочетание академической аргументированности с литературным остроумием. Критик усматривает в работе Лакшиной также свежесть и новизну авторской мысли. По существу Ямщиков говорит, что Лакшина совершила достоеведческое открытие (что при неимоверном множестве работ о Достоевском случается редко).
Далее в рубрике «Наблюдатель» помещена подрубрика «Рецензии», которая в точности соответствует своему названию.
Первая рецензия: Татьяна Веретенова. Гузель Яхина. Эшелон на Самарканд. О книге: Гузель Яхина. Эшелон на Самарканд. М.: Редакция Елены Шубиной (АСТ), 2021.
В центре авторского сюжета – отмечает Веретенова – движение поезда с беспризорными детьми из голодающего Поволжья в Туркестан. Отмечая в «Эшелоне» черты поэтики кино, Веретенова говорит, что в книге Яхиной увлекательность сочетается с постановкой ответственных этических вопросов на историческом материале.
Вторая рецензия: Андрей Рослый. Несколько выходов Анатолия Наймана. О книге: Анатолий Найман. Выход. – М.: ОГИ, 2020.
В стихах Наймана Рослый отмечает авторскую эрудицию, многомерность и боль за собственную страну. Изображая своих современников, Найман сопровождает их литературные портреты множеством скрытых исторических аллюзий.
Третья рецензия: Полина Жеребцова «Адепты смерти любят тишину». О книге: Сергей Лебедев. Дебютант. М.: АСТ; Corpus, 2021.
Говоря о политическом романе Лебедева «Дебютант», Жеребцова акцентирует силу психологических нюансов и в то же время чувство целого, присущее автору.
В самом деле, здоровое невмешательство в политику, которая в принципе считается «грязным делом» есть некий императив социальной этики. Но в той мере, в какой политика (в силу взаимосвязи явлений) всё-таки влияет на частную жизнь, её (разумеется, не частную жизнь, а политику), увы, невозможно просто игнорировать. И тогда в силу вступают психологические нюансы, которые позволяют нам ощутить общественные процессы из некоей самодостаточной ниши частного бытия.
Четвёртая рецензия: Антон Задорожный «Над мифом еще полыхнем». О книге: Константин Комаров. Соглядатай словаря. – М.: СТиХИ, 2021. – (Single).
В стихах Комарова Задорожный акцентирует игру ума, а также языковую игру, иронию над бытом.
Константы поэзии Комарова Задорожный связывает с традициями екатеринбургской поэзии.
Пятая рецензия: Галина Калинкина «Слабый тургор». О книге: Алена Жукова. Страшная Маша. – М.: АСТ, 2021. – (Городская проза).
Калинкина усматривает у Жуковой то внешнее, во многом кажущееся неправдоподобие, и тот вызывающий гротеск, за которым, тем не менее, угадывается правда жизни…
Шестая рецензия: Юрий Цветков «Неоднозначность окружающего». О книге: Евгений Волков. Колокол. – М.: Стеклограф, 2021.
Цветков акцентирует в стихах Волкова игру и силу звука, родственную поэту Кручёных, а также поэту Василиску Гнедову.
Седьмая рецензия: Артем Комаров «Земля, твое небо – война…». О книге: Герман Садулаев. Земля-воздух-небо: роман. – М.: Эксмо, 2021.
Как показывает Комаров, герой Садулаева ищет смысл жизни и для этого идёт на войну. Однако опыт войны обезличивает и разочаровывает персонажа Садулаева.
Несколько парадоксально называя Садулаева государственником и милитаристом (с. 232) Комаров призывает Садулаева к писательской ответственности за то воздействие, которое способны оказать его книги на души читателей.
Восьмая рецензия: Александр Марков «Невозможность яви». О книге: Григорий Злотин. Снег Мариенбурга. – М.: Издательский проект «А и Б», 2021.
Марков акцентирует у Злотина некий переход условного в реальное, своего рода овеществление умственных абстракций.
Далее в рубрике «Наблюдатель» возникает локальная подрубрика, она же – название публикации с именем автора: «театральные впечатления Павла Руднева». Имеется подзаголовок: ««В» по книге Александра Вертинского «Дорогой длинною», реж. Роман Каганович, моноспектакль Сергея Азеева. Театр ненормативной пластики, Санкт Петербург».
На материале моноспектакля Азеева Руднев говорит о «двойном стандарте» жизни советского интеллигента: «Одни слова для кухонь, другие для улиц» (с. 234). По мысли Руднева герой моноспектакля обретает выход из душевной раздвоенности в опыте Серебряного века.
Завершает 1-ый выпуск «Знамени» за нынешний год «скоропись Ольги Балла» (название подрубрики «Наблюдателя» вновь совпадает с названием публикации). Балла выступает как автор кратких рецензий на современные книги.
Первая рецензия – о книге: Наталья Осис. Солнечный берег Генуи. Русское счастье по-итальянски. – М.: Редакция Елены Шубиной (АСТ), 2021. – (Русский iностранец).
Балла пишет о том, как в книге Осис является трогательная картина счастья, однако она является в ретроспективно элегическом русле воспоминаний об Италии.
Вторая рецензия – о книге: Татьяна Нешумова. Шестиногая собачка: Дневники итальянских путешествий. – М.: Новое литературное обозрение, 2021. – (Письма русского путешественника).
На примере книге Нешумовой Балла продолжает анализировать итальянскую тему в русской литературе.
Третья рецензия – о книге: Илья Кочергин. Присвоение пространства. – М.: Новое литературное обозрение, 2021. – (Письма русского путешественника).
Говоря о путешествии в отечественную глубинку (на материале книги Кочергина) Балла несколько парадоксально указывает на сходство книги Кочергина «Присвоение пространства» и книги Нешумовой «Шестиногая собачка».
Мысль Ольги Балла заключается в том, что при кардинальных различиях солнечной Италии и русской глубинки, у двух авторов возникает концептуально сходное художественное решение этих двух пространств. Повествуя о культуре и обычаях двух очень разных стран, оба автора говорят о труде как об этической величине и об эстетическом удовольствии, которое влечёт за собой истинный труд. Душеполезный труд и эстетическое удовольствие в их причинно–следственной взаимосвязи показаны двумя авторами на различном этническом материале – считает Балла.
В журнале «Знамя» частная жизнь современных россиян показана на фоне истории и на фоне вечности. Тем самым, современность в публикациях журнала вписывается в круг непреходящих ценностей.
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети