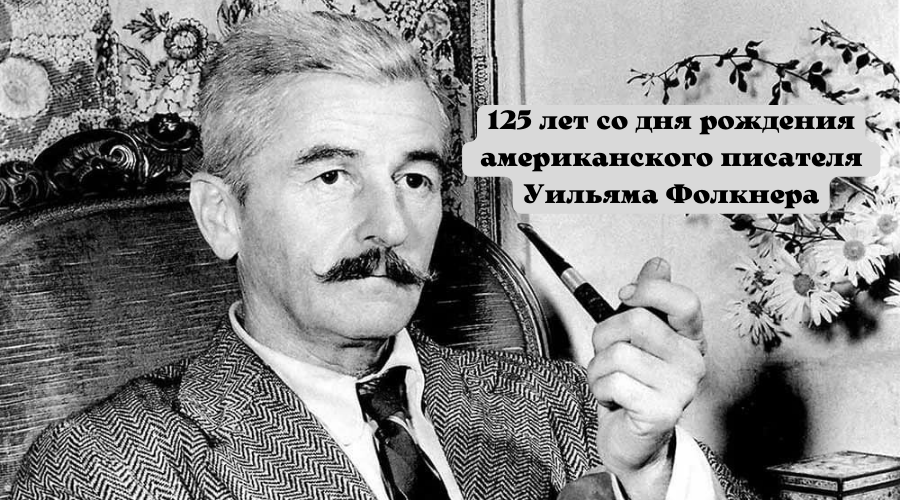
Уильям Фолкнер родился 25 сентября 1897 года в городе Нью-Олбани, штат Миссисипи, США, в семье аристократов-плантаторов юга. Отец работал проводником на железной дороге, которую построил прадед будущего писателя.
С подросткового возраста Уильям был увлечён написанием стихов и рассказов.
В 1918 году отучился в лётной школе Королевских ВВС Канады, в Торонто. Застал лишь окончание Первой мировой войны, в военных действиях не участвовал.
Вернувшись в США, в течение года посещал занятия в университете Миссисипи, затем оставил учёбу. Занятия творчеством совмещал с поисками заработка. Успел поработать банковским служащим, работником почты при университете (был уволен за чтение на рабочем месте), служащим электростанции, маляром.
В 1924 году Фолкнер выпустил дебютную книгу стихов «Мраморный фавн», написанную под влиянием творчества поэта-романтика Джона Китса (1795–1821) и французских символистов. Поэтические увлечения Фолкнера (он называл себя несостоявшимся поэтом) нашли отражение и в его прозе – заворожённость смертью, отношение к судьбе и року; яркость образов, цветистость описаний, сложный синтаксис.
Серьёзное влияние на будущего прозаика оказало знакомство в Новом Орлеане с писателем Шервудом Андерсеном. В 1925 году Фолкнер побывал в Европе.
Первый роман У. Фолкнера, «Солдатская награда» (1926), написанный под влиянием Ш. Андерсена, – о войне, автор пишет о её бесчеловечности, выступает против гибели людей и крушения человеческих судеб. Герой романа Дональд Мэхон в 17 лет получил на «империалистической бойне» страшное увечье – это его «награда». Уже в этом романе, написанном в духе литературы «потерянного поколения», Фолкнер заявляет одну из своих будущих сквозных тем – болезненных проявлений человеческой психики.
«Москиты» (1927), попытка интеллектуального романа, написан под влиянием творчества Олдоса Хаксли, в нём протест против послевоенной действительности выражен ещё более явственно.
В 1929 году выходят романы Фолкнера «Сарторис» и «Шум и ярость». С этого времени действие всех его романов происходит в вымышленном округе Йокнапатоф, детально прописанном автором мире. Фолкнер даже нарисовал карту Йокнапатофа. За 30 лет творчества У. Фолкнер создал сагу о жизни в сердце американского Юга. Герои романов «На смертном одре» (1930), «Святилище» (1931), «Свет в августе» (1932), «Авессалом, Авессалом!» (1936) – переходящие из книги в книгу Компсоны, Сарторисы, Маккаслины, де Спейны, Стивенсы, а также Сноупсы, герои трилогии «Деревушка» (1940), «Город» (1957), «Особняк» (1959).
Фермерский юг со своими патриархальными традициями обречён, он слишком привязан к своему прошлому, безвозвратно утерянному. К тому же южане несут бремя вины предков за признание законным порабощение чернокожих.
Фолкнер противопоставлял своё творчество труду писателей-«стенографистов, с талантом описывать людей». Его сложные для восприятия тексты – это «поток сознания», который перемежается вставными новеллами, снабжён комментарием автора, время действия смещено.
В романе «Шум и ярость» нет развитого сюжета и действия. Композиция романа о клане Компсонов построена на повторе и вариациях (монологах трех братьев и четвертой части, «авторской»), повествование – по сути «поток сознания». Сильно запутана хронология событий. Название Фолкнер позаимствовал у Шекспира, в трагедии «Макбет»: жизнь – «это лишь повесть, рассказанная идиотом, полная шума и ярости и ничего не значащая». Главная мысль романа «Шум и ярость», произведения с открытым финалом – человек не способен придать смысл беспросветному хаосу бытия.
С выходом в 1931 году романа «Святилище» Фолкнер становится интересен не только литературным критикам, но и широкому читателю. Автор признавался, что и писал его ради денег. Остросюжетный роман о гангстере-садисте действительно принёс автору коммерческий успех. Также Фолкнер был приглашён в Голливуд в качестве сценариста-консультанта.
Как один из лучших, выделяют роман Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» (1936) – о судьбе семьи Сатпенов. Фабула романа основана на библейской истории: Авессалом – сын царя Давида, уничтожает своего брата Амнона, который совершил насилие над их сестрой Фамарью. Затем Авессалом идёт войной на отца и гибнет. Давид оплакивает сына.
Семейство Сноупсов действует в трилогии «Деревушка», «Город» и «Особняк» на протяжении более 100 лет, с 20-х годов XIX до 40-х годов XX века. Повествование ведут три персонажа: американец русского происхождения В.К. (Владимир Кириллович) Рэтлиф, адвокат Гэвина Стивенса и его племянник Чарльз Маллисон. Рассказчики знакомят читателя со «сноупсизмом», стяжательством как основной чертой «нового рода» Сноупсов, жестоких, безжалостных дельцов. Только подобные Сноупсам могут выжить на новом Юге. Но всё непросто: «сноупсизм» тоже не всемогущ и уязвим… В трилогии задействован американский фольклор: фантастические рассказы, небылицы, народный юмор.
Символический роман-легенда «Притча» (1944–1953), в котором писатель снова обратился к теме Первой мировой войны, благодаря своей связи с философией экзистенциализма обрёл массу поклонников во Франции.
Здесь Христос (он назван Капралом) спустился на землю второй раз, и снова был распят и теперь он лежит в могиле Неизвестного солдата…
За эту книгу У. Фолкнер удостоился Пулитцеровской премии и Национальной книжной премии США (1955).
Детективный роман «Осквернитель праха» (1948) – о чернокожем Лукасе Бошане, которого несправедливо обвиняют в убийстве – стал самым коммерчески успешным произведением Фолкнера: студия «Метро-Голдвин-Майер» заплатила автору за права на экранизацию 50 тысяч долларов.
Фолкнер создал пьесу «Реквием по монахине» (1951), её инсценировка авторства Альбера Камю была сначала поставлена в Европе, затем – на Бродвее (1959).
Рассказы и новеллы У. Фолкнер писал не только ради заработка. Он очень любил этот жанр, многие из рассказов затем вошли в романы. Выходили сборники Фолкнера: «Эти тринадцать» (1931), «Сойди, Моисей» (1942), в 1950 году было опубликовано «Собрание рассказов» (Национальная книжная премия – 1951).
Скончался в 1962 году в Оксфорде, штат Миссисипи.
Глубоко национальный писатель, Фолкнер – несомненный классик мировой литературы XX века. Во многом благодаря тому, что в центре внимания – всегда человек, в силу духа которого, в его лучшие качества автор верит безгранично.
При вручении Нобелевской премии (1949, с формулировкой – «За значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа») Фолкнер так обосновал свою веру в человека: «Я верю, что человек выстоит, преодолеет все препятствия и победит. Человек бессмертен. Он бессмертен не потому, что только он один из всего живого наделён неистощимым голосом, а потому, что у него есть душа, обладающая свойствами страдания, приношения себя в жертву и преодоления препятствий».
В интервью 1956 года У. Фолкнер сказал: «Цель каждого писателя – намеренно затормозить движение, которое и есть жизнь, задержать время так, чтобы через сто лет кто-то открыл его книгу, и время снова пошло. Человек смертен, но он может оставить после себя что-то, что сделает его бессмертным, продлит ему жизнь. Это и будет его надпись «Здесь был я», оставленная прежде, чем он безвозвратно покинет этот мир и уйдет в небытие…».
Уильям Фолкнер, «Авессалом! Авессалом!»
(роман, фрагмент, начало, перевод М. Беккер)
Текст, выделенный в книжном издании курсивом, заключен в фигурные {} скобки.
I
С третьего часа пополудни и почти до заката долгого, тихого, томительно жаркого, мертвого сентябрьского дня они сидели в комнате, которую мисс Колдфилд до сих пор называла кабинетом, потому что так называл ее отец, – в полутемной, жаркой и душной комнате, где уже сорок три лета подряд все ставни были наглухо закрыты – когда мисс Колдфилд была девочкой, кто-то решил, что от света и движения воздуха веет жаром, а в темноте всегда прохладнее, и которую (по мере того, как солнце все ярче и ярче освещало эту сторону дома) рассекали на части желтые полосы, трепещущие мириадами пылинок, – Квентину казалось, что это ветер вдувает внутрь с облупившихся ставен чешуйки старой пожухлой и мертвой краски. За окном вилась по деревянной решетке расцветшая второй раз этим летом глициния, на нее время от времени невесть откуда обрушивалась стайка воробьев, с сухим шелестящим звуком поднимала клубы пыли и снова улетала прочь, а напротив Квентина сидела мисс Колдфилд в своем вечном трауре – она носила его уже сорок три года – по сестре ли, по отцу или по немужу – этого не знал никто; прямая как жердь, она сидела на простом жестком стуле, который был ей настолько высок, что ноги ее свисали с него прямо и не сгибаясь, словно берцовые кости и лодыжки были сделаны из железа, – не доставая до полу, как у маленькой девочки, они как бы выражали застывшую и бессильную ярость, а сама она мрачным, измученным, полным изумления голосом все говорила и говорила – до тех пор, пока отказывал слух, а слушатель терял нить и окончательно переставал что-либо понимать, между тем как давно умерший предмет ее бессильного, но неукротимого гнева, спокойный, безобидный и небрежный, возникал из терпеливо сонного торжествующего праха, словно пробужденный к жизни этим негодующим повтором.
Голос ее не умолкал, он лишь исчезал. В сгущавшейся вокруг туманной мгле стоял едва уловимый запах гробов, подслащенный и переслащенный ароматом вторично расцветшей глицинии, что вилась по наружной стене под свирепым и тусклым сентябрьским солнцем – лучи его, казалось, сначала уплотняли этот аромат, а потом снова превращали в легкое, почти неуловимое дуновенье; словно свист гибкого хлыста, которым от нечего делать размахивает ленивый мальчишка, в наступавшую тишину временами врывалось громкое хлопанье воробьиных крыльев и острый запах старого женского тела, давным давно стоящего на страже своей девственности, а со слишком высокого стула, на котором она казалась распятым ребенком, поверх смутно белеющего треугольника кружев вокруг шеи и на запястьях на Квентина смотрело бледное изможденное лицо и звучал голос – он не умолкал, а лишь на время исчезал, но после долгих пауз приходил обратно, подобно ручейку или струйке воды, что течет от одной кучки сухого песка к другой, между тем как призрак с сумрачной покорностью размышлял о том, что вот он вселился только в голос, а любой другой, более удачливый его собрат наверняка бы захватил весь дом. Из беззвучного удара грома он (человек-лошадь-демон) внезапно врывался в пейзаж, мирный и благопристойный, словно получившая премию на школьном конкурсе акварель; от его одежды, волос и бороды все еще исходил слабый запах серы, за ним виднелась свора черномазых – дикие звери, которых только-только обучили ходить вертикально подобно людям, – в позах диких и непринужденных, и среди них, словно закованный в цепи, мрачный, измученный, оборванный француз-архитектор. Недвижимый, бородатый, всадник сидел, вытянув вперед руку ладонью вверх, а за ним молча топтались черномазые и пленный архитектор, держа в руках топоры, кирки и лопаты – парадоксально бескровное оружие мирного завоеванья. Потом в долгом неудивленье Квентин, казалось, увидел, как они внезапно заполонили сто квадратных миль безмятежной и потрясенной земли, яростно вырвали из беззвучного Ничто дом и регулярный сад, словно карты на стол, швырнули их под вытянутую вперед недвижимую державную руку – и тогда возникла {Сатпенова Сотня, Да Будет Сатпенова Сотня}, как в незапамятные времена {Да Будет Свет}. Вслед за тем слух его как будто смирился, и теперь он, казалось, стал слушать двоих разных Квентинов – того Квентина Компсона, который готовился поступить в Гарвард на Юге, глубоком Юге, мертвом с 1865 года и населенном болтливыми негодующими растерянными призраками; он слушал – вынужден был слушать – одного из этих призраков, который даже еще дольше, чем все остальные, отказывался утихомириться и толковал ему о старых призрачных временах, и другого Квентина Компсона, который был еще слишком молод, чтобы заслужить честь стать призраком, но все равно обреченного им стать, ибо он, как и она, родился и вырос на Юге, – двоих разных Квентинов, которые теперь разговаривали друг с другом в долгом молчании нечеловеков, на неязыке, приблизительно так: {Сдается, что этот демон – его звали Сатпен – (Полковник Сатпен) – полковник Сатпен. Который ниоткуда нежданно-негаданно явился на эту землю со сворой чужих черномазых и основал плантацию – (Яростно выбил плантацию, как говорит мисс Роза Колдфилд) – яростно выбил. И женился на ее сестре Эллен и произвел на свет сына и дочь – (Произвел на свет без ласки, как говорит мисс Роза Колдфилд) – без ласки. Которые должны были сделаться жемчужиной его гордости, опорой и утешением его старости, но – (Но не то они погубили его, не то он погубил их или еще что-то в этом роде. И умер) – и умер. И никто о нем не пожалел, говорит мисс Роза Колдфилд – (Кроме нее). Да, кроме нее. (И кроме Квентина Компсона.) Да. И кроме Квентина Компсона}.
– Говорят, вы едете в Гарвард учиться в колледже, – сказала мисс Колдфилд. – Поэтому вы едва ли когда-нибудь вернетесь сюда и станете провинциальным адвокатом в маленьком городке вроде Джефферсона – ведь северяне давно уже позаботились о том, чтоб на Юге молодому человеку нечего было делать. Поэтому вы, быть может, займетесь литературой, как многие нынешние благородные дамы и господа, и, быть может, в один прекрасный день вспомните и напишете об этом. Я полагаю, что к тому времени вы уже будете женаты, и вашей жене, возможно, понадобится новое платье или новое кресло для дома, и тогда вы сможете написать это и предложить журналам. Возможно, тогда вы даже с добрым чувством вспомните старуху, которая заставила вас целый день просидеть взаперти, слушая ее россказни о людях и событиях, которых вам самому посчастливилось избежать, тогда как вам хотелось провести это время на воздухе в обществе своих юных сверстников.
– Да, сударыня, – отвечал Квентин. {Только она совсем не то имеет в виду, подумал он. Ока просто хочет, чтобы об этом рассказали}.
Было еще совсем рано. У него в кармане еще лежала записка, врученная ему маленьким негритенком незадолго до полудня, в которой она просила его зайти к ней, – странная церемонно вежливая просьба, скорее даже повестка, чуть ли не с того света, – затейливый древний листочек добротной старинной почтовой бумаги, исписанный неразборчивым мелким почерком; при этом, то ли от изумления, что к нему обращается с просьбой женщина втрое его старше, с которой он не обменялся и сотнею слов, хотя знал ее всю свою жизнь, то ли просто оттого, что ему было всего лишь двадцать лет, он не распознал, что почерк этот свидетельствует о характере холодном, неукротимом и даже жестоком. Он повиновался и сразу же после полудня по пыльной сухой жаре первых дней сентября прошел полмили от своего до ее дома. Дом тоже почему-то казался меньше, чем на самом деле (он был двухэтажный); некрашеный и несколько запущенный, он, однако же, производил впечатление некоей свирепой стойкости, словно, как и сама его хозяйка, создан был для того, чтобы занять свое место в мире чуть меньшем, нежели тот, в котором он очутился. В полумраке закупоренной прихожей, где воздух был даже жарче, чем на дворе, словно здесь, как в склепе, были погребены все вздохи медленно текущего, обремененного зноем времени, которое повторялось снова и снова вот уже сорок пять лет, стояла маленькая фигурка в черном платье, не издававшая ни малейшего шороха, с тусклым треугольником кружев на шее и на запястьях, а бледное лицо смотрело на него с выражением задумчивости, сосредоточенности и упорства, ожидая минуты, когда можно будет пригласить его в дом.
{Ей нужно, чтобы об этом рассказали, подумал он, так, чтобы люди, которых она никогда не увидит и чьих имен никогда не услышит, а они в свою очередь никогда не слышали ее имени и не видели ее лица, прочитали это и наконец поняли, почему господь допустил, чтобы мы проиграли эту Войну; что лишь ценою крови наших мужчин и слез наших женщин он мог остановить этого демона и стереть с лица земли его имя и его род}. Потом ему сразу же пришло в голову, что отнюдь не по этой причине она послала записку, и к тому же послала ее именно ему – ведь если она просто хотела, чтобы об этом рассказали, написали и даже напечатали, ей вовсе не надо было никого приглашать – ей, женщине, которая еще в молодые годы его (Квентинова) отца снискала репутацию поэтессы-лауреатки их города и округа, опубликовав в суровой, имевшей ничтожное число подписчиков окружной газете несколько стихотворений, оду, панегирик и эпитафию, почерпнутых из каких-то горьких и непримиримых запасов непораженья.
Однако пройдет еще три часа, прежде чем он узнает, почему она послала за ним, ибо часть этого, первую часть, Квентин уже знал. Это была частица его собственного наследия, нажитого им за свои двадцать лет, – ведь он дышал тем же воздухом и слышал, как его отец говорил о человеке по имени Сатпен; это была часть наследия города Джефферсона, который восемьдесят лет дышал тем же воздухом, которым человек этот дышал между нынешним сентябрьским днем в 1909 году и тем воскресным утром в июне 1833 года, когда он впервые въехал в город из туманного прошлого, и приобрел себе землю никому неведомым образом, и построил свой дом, свой особняк, по всей видимости из ничего, и женился на Эллен Колдфилд, и произвел на свет двоих детей – сына, сделавшего вдовою дочь, что не успела даже выйти замуж – и так, предначертанным ему путем, пришел к насильственной (мисс Колдфилд, во всяком случае, сказала бы – заслуженной) смерти. Квентин с этим вырос; даже самые эти имена были взаимозаменяемы и почти что неисчислимы. Его детство было полно ими; в самом его теле, как в пустом коридоре, гулким эхом отдавались звучные имена побежденных; он был не реальным существом, не отдельным организмом, а целым сообществом. Он, как казарма, был наполнен упрямыми призраками со взором, обращенным назад, призраками, которые даже сорок три года спустя все еще выздоравливали от лихорадочного жара, вылечившего их болезнь; они приходили в себя от лихорадки, даже не зная, что боролись именно с нею, а не с самим заболеванием; с непоколебимым упорством и даже с сожалением продолжая смотреть назад, за пределы лихорадки, в самую болезнь, ослабев от лихорадки, но зато освободившись от болезни, они даже не сознавали, что эта свобода – свобода бессилия…




