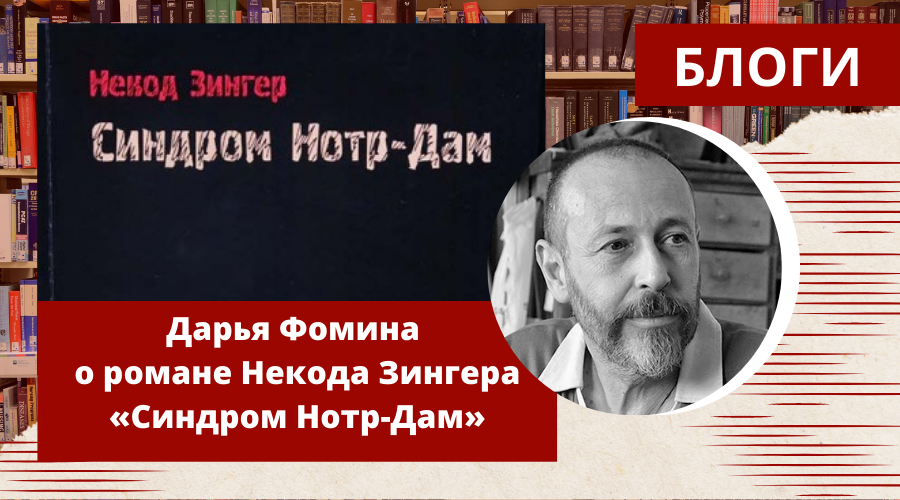
Некод Зингер – известный израильский переводчик и писатель, пишущий на русском и иврите. «Синдром Нотр-Дам» – уже четвертая книга автора. До нее были опубликованы на русском языке «Билеты в кассе» (2006), «Черновики Иерусалима» (2013), «Мандрагоры» (2017).
Как и в предыдущих книгах, в «Синдроме Нотр-Дам» много еврейской истории, местных подтекстов, которые легко считываются носителями языка и культуры. Много Иерусалима, его улиц, переулков, кафе, архитектурных объектов, которые прописаны так четко, что кажется, можно совершить путешествие по Иерусалиму реальному – по следам героев книги Некода Зингера.
То, что отличает новый роман Некода Зингера от предыдущих, – это взгляд на Иерусалим земной и Иерусалим небесный. Так, в «Мандрагорах», к примеру, упор сделан на метафизику, на область обитания души после смерти, на изображение того, что невозможно увидеть и изобразить. В новом же романе преобладает Иерусалим земной, то есть автора интересуют, прежде всего, живые люди, их мысли, чувства, сны, мечты и воспоминания.
В книге подробно описан Иерусалим примерно 60-х годов XX века, до Шестидневной войны – еще нет мобильных, в городе стоят телефонные автоматы. В романе живые, очень милые персонажи, со своими характерами, страхами, симпатиями и антипатиями. За их жизнью интересно наблюдать, и читатель вдруг замечает, что любит их, как старых добрых друзей.
Персонажи так или иначе связаны с древним монастырем и приютом Нотр-Дам де Франс – и Йонатан, и Йозеф Тушка, и Аарон, и кибуцник Нахум, и даже путешествующий по городу маленький поросенок. Среди обитателей монастыря есть даже своя Эсмеральда, или просто Сёма, – таким образом автор отсылает нас к роману Гюго «Собор Парижской богоматери».
Писатель знакомит нас с историей иерусалимского монастыря Нотр-Дам, с его обитателями в разные времена, при этом разбавляя ту или иную интригующую историю рассуждениями – своеобразными эссе на различные философские темы. Невозможно догадаться, придуманы эти вставные новеллы или же все это было в реальности – лоскутное одеяло повествования сшито на совесть, белые нитки нигде не торчат.
В чем же смысл названия «Синдром Нотр-Дам»? Что это вообще за явление такое? Его еще называют Парижский синдром – дискомфорт, возникающий из-за разницы между идеализированным городом и реальным. Этот синдром был обнаружен в 1986 году психиатром Хироаки Ота во время работы во Франции. Синдром Нотр-Дам есть у каждого из героев романа Некода Зингера – все они испытывают дискомфорт, потерянность, травмированность реальностью, чувство тревоги, неустроенность в жизни. Некоторые герои, например, Йонатан, ищут ответы на философские вопросы, не могут их найти и мучаются этим, не могут найти покоя нигде. В Иерусалиме все немного сумасшедшие. И даже доктор Тушка, который изучает синдром Нотр-Дам, применяет необычные, даже странные методики.
Несмотря на то, что все герои, даже воры-карманники, скорее положительные, и между ними нет по-настоящему драматичных конфликтов, автор подсаживает читателя на крючок, рассказывая интересные истории. Например, про монахиню, у которой изо рта выпала вставная челюсть – прямо на линию прекращения огня, на которой расположен приют Нотр-Дам. Или про то, как к сидевшему на крыше инвалиду свалился в прямом смысле «драндулет» – летающее инвалидное кресло с неунывающим пассажиром. Очень занятная история про путешествующего поросенка, который любопытен, как ребенок, прячется в мусорных баках, заходит в гости к жителям Иерусалима. Или необычная история в духе мистического реализма Маркеса или Кортасара – о кошмарном полусне-полуяви, где паренек блуждает по городу и в метро, и все никак не может выбраться.
Помимо ярких визуальных образов, интересна и музыкальность романа. Как и сам многонациональный Иерусалим, звучащий на разных языках, роман Н. Зингера звучит по-русски, разбавляется английским, французским, немецким и ивритом. А действие романа периодически сопровождается музыкой, навевающей на читателя определенное настроение, ассоциацию, музыка выражает дух эпохи. Например, известная джазовая композиция «Девушка из Ипанемы», популярная в то время песня «По берегу Днепра мчатся кони» и другие.
Авторский стиль узнаваемый, яркий, ироничный, имитирующий несколько витиеватый язык русской интеллигенции прошлого века.
Повествование в книге сопровождается языковой игрой, лингвистическими шутками, которые заставят улыбнуться каждого: «Воспаление легких, не говоря уже о тяжелых». «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», – писал А.С. Пушкин. И Некод Зингер, видимо, тоже не любит. Его персонажи делают очень милые речевые ошибки. Например, Эсмеральда, когда говорит по-русски. «В этом городе так хорошо блудить», – восклицает она, блуждая со своим новым знакомым по Иерусалиму.
В книге Некода Зингера то и дело мелькают аллюзии к классической и современной литературе. Тему Иерусалима подхватили и другие современные авторы. Например, в творчестве А. Иличевского Иерусалим выступает в качестве героя. И если у А. Иличевского это Иерусалим небесный, наполненный бесплотными духами города, то у Некода Зингера, как уже сказано выше, на этот раз Иерусалим земной, полный живых людей, из плоти и крови, и эти обитатели города живут своей жизнью, встречаются, любят, обижаются, спорят друг с другом.
В конце книги, как оливка в бокале с мартини, всплывает аллюзия к «Мастеру и Маргарите». В романе есть современная Маргарита, которая живет в Иерусалиме, а не в Москве, и у нее вместо желтых цветов в руках маленький, с ладонь, радиоприемник. И есть Мастер – загадочный Йонатан, который все время что-то пишет карандашом в тетрадке, сидя в кафе. Мастер предлагает своей Маргарите пойти посмотреть на Старый город с крыши Нотр-Дам: на кинотеатр «Маяковский», аптеку номер семь, Первомайский сад, уличный рынок Уайтчепелле. Но в итоге они уходят смотреть на город новый, бросив всё старое, всю свою прежнюю жизнь, прежние переживания и мысли, обменяв их на покой. А хозяин кафе обнаружит на столике оставленные здесь навсегда исписанные тетради да старенький радиоприемник. И «всё будет так, как должно быть».




