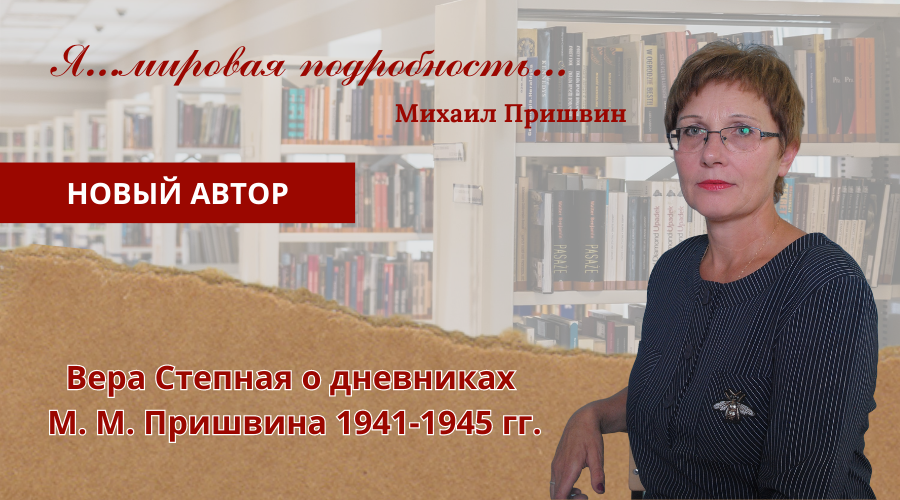
В наши дни, в год 150-летия со дня рождения великого мастера, воспевшего мельчайшие подробности живой природы, невольно задаёшься вопросом: какие Слова подобрал писатель в тяжелую годину Великой Отечественной войны, выражая дух своего времени, долгих лет противостояния нашей Родины мировому злу, борьбы каждого разумного человека за нравственные ценности?
Накануне, 15 июня 1941, внёс в свой дневник пометку-утверждение о том, что «у каждого свой воробей», т.е. любой из нас может и должен увидеть и открыть в обыденном нечто своё, особенное.
18 июня внесена запись о 40-летнем литературном юбилее, то есть ко времени рассматриваемых нами записей М.М. Пришвин пришёл уже состоявшимся писателем, зрелым мыслителем.
И коротко, сухо, 22 июня: «Война. И всё полетело…».
Сетует на отсутствие или скудность информации с передовой. Ужасается «реке женских слёз» и «рекам мужской крови». Первые дни войны названы писателем «смутными» оттого, что народ пребывал в страхе перед неизвестностью. «Всех объединил страх за родину».
Рядом с датой обязательно авторская приписка – счёт дням войны. О природе, философских раздумьях ни слова до 15-го дня войны. Только 7 июля запишет: «…небывалое: в июле цвели ландыши».
Часто повторяет, то русский народ «хочет жить», поэтому должен победить. Неотступно его преследует мысль о долге писателя перед народом, перед самим собой: «Я, как писатель, т.е. свидетель нашего «сейчас» … обязан внести свою лепту … об этом «сейчас» … в вечность…».
Далее скупо обозначает «светопреставление» бомбардировок, пожаров, четырёхдневного откапывания людей из бомбоубежища, людское горе, растерянность, но и желание народа сопротивляться, бороться за жизнь.
«Война не случайность, – пишет он 26 июня, – …сущность – страдание…».
В 43-й день войны замечает возрастные изменения в себе. То, что раньше пугало и настораживало своей безысходностью и обреченностью, теперь подчёркивало его сопричастность судьбе многострадального народа, судьбе Отечества.
«Когда нива поспела и колосья согнулись от тяжести зёрен, – не верьте колосу, что высоко над нивой стоит: этот колос пустой».
Наблюдая за людьми, писатель отмечает, что «средний человек стал лучше».
Постепенно авторские раздумья приходят к умозаключению, что «хороших людей гораздо больше, чем нам об этом говорят…». Эта мысль – протест «пропаганде вражды» – становится необходимой как воздух в «острый момент жизни страны».
Размышления писателя о том, что индивидуальная смерть «редко совпадает с концом дела всей нашей личности», даёт право нам, читателям, полагать, что к началу сентября 1941 года М.М. Пришвин уж твёрдо стоит на позициях бойца литературного фронта. Потому что именно поиск необходимого животворящего Слова и был его главным делом.
Михаил Михайлович убеждён, что литератору дано невидимое, но действенное оружие: «слово может само постоять за себя».
В единении с природой автор черпает силы. Он испытывает родственное отношение к деревьям, которые согревают, дают опору: «…глянешь на них … из себя и вдруг увидишь в каждом из них свою судьбу».
27 сентября подчеркивает: «…души у деревьев горячие».
В дни смятений, когда перед автором встал извечный вопрос пишущего человека: кому нужно всё, что написано, издано? Может, никому? Когда Михаил Михайлович был близок к уничтожению всего своего литературного труда («ненавистны мне были написанные мной бумаги и этот ежедневный труд»), выходом стало именно единение с природой, слияние с безмолвной гармонией леса. Он находит душевное равновесие, прижавшись к дереву, «слился с ним и мало-помалу стал совершенно спокоен».
Ситуация коллективной агрессии со стороны Запада относительно России очень похожа на не менее страшную данность наших дней: «…надо собираться на борьбу самую грубую за жизнь и самую тонкую – за смысл её» (7 октября 1941), «…особенно жутко, что в программе фашистов … уничтожение славян» (21 октября 1941).
Информационная пропаганда тех лет так же продвигала свой фронт, как и сейчас: «…слухи по радио всяк сочиняет, как может».
Писатель негодует на то, что замалчивается, не произносится, не доносится до бойца и гражданина, жаждущих живительного Слова Правды: «Слово потеряло силу и отошло куда-то в молчание … каждый из нас подавлен, что это (убийство – В.С.) можно и против никто ничего не может сказать» (21 ноября 1941).
Свидетель своего времени, он, Пришвин, как и мы сейчас, многое не может понять в ходе той (мы – этой) битвы: «Пока не кончится война, ничего не поймёшь». Единственное, что ясно для все нас, что «всё человечество в состоянии тотальной войны» (8 декабря 1941) и то, что «в беде, настигнувшей нас, весь мир виноват».
Возвращаясь к отношениям со Словом, писатель все-таки одерживает моральную победу и записывает: «…слово моё становится всё крепче в этой борьбе за жизнь всего человека».
Так, читая дневники М.М. Пришвина военных лет, понимаешь, что во все времена дух русского народа поддерживался силой Слова. «Не чугуном всё делается, а словом», – напоминал всем нам писатель. И сам оставался верен главному делу своей жизни. Оно, это дело, и сейчас вселяет уверенность, помогает выстоять, сохранить незыблемые ценности.
Вера Степная. Родом из Тамбовской глубинки, пишет с детства. Учитель, член Союза журналистов РФ, член Союза литераторов РФ. Печаталась в журналах «Слово» , Москва-2022; «Александръ», Мичуринск- 2018, 2021 гг; «Литературный Тамбов», Тамбов -2019, 2021, 2022 гг. Вышли в свет 4 поэтических сборника и две краеведческие книги. Пишет публицистику о И. Бродском, О. Мандельштаме, М. Цветаевой.




