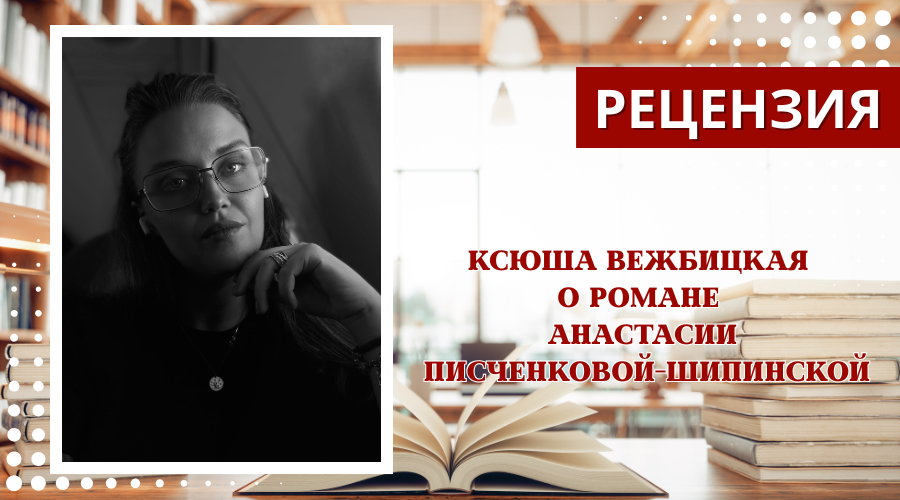
Бывает, писатели отправляют героев в другие галактики или на океанское дно, в путешествие между мирами, где скрывается истина. Гораздо труднее искать правду в сегодняшнем дне, покрытом будничной пылью. В романе «Золушка: Ребенок, изменивший судьбу целых поколений» Анастасия Писченкова-Шипинская исследует этические дилеммы, с которыми сталкивается современный человек.
В центре внимания автора несколько семей: дружные Кирилловы и Волковы, несчастная семья Екатерины Андреевны и Николая Степановича, дельцы Афанасьевы, а также стерильно-искусственная семья Алины и Руслана. Семейный вопрос — главный в романе. Писатель погружает нас в перипетии родственных отношений и ставит следующие вопросы: что семья значит для человека, каково быть матерью — кровной и суррогатной, как современные репродуктивные технологии влияют на общество? Остроактуальные темы наслаиваются на традиционный конфликт отцов и детей.
Екатерина Андреевна и Николай Степанович воспитывали дочь Лену в коллективистском духе: призывали помалкивать и не выделяться. Не имея возможности быть собой, Лена растворяется в окружающем мире, становясь ведомой:
«Принято считать, что в конечном счете мир делится на два типа людей. На тех, кто аккуратно сидит на краешке дивана, не смея замарать обивку своими неуклюжими действиями и потревожить покой других, и тех, кто разваливается на диване во весь рост и оставляет повсюду крошки. Но, знаете, есть и третий тип — те, кто, словно запыленные портреты на дальней стене, молчат. Молчат так глубоко и основательно, что кажется, будто их не существует. Их голоса звучат как шепот ветра, если вообще звучат. Они не оставляют крошек, не оставляют следов, не оставляют впечатлений. Елена была как раз из третьего типа».
История Лены удачно раскрывается при помощи этой емкой характеристики и дневника, однако писатель подводит итог и пытается прямо растолковать читателю мысль про Екатерину Андреевну и Николая Степановича:
«Но их любовь была какой-то… навязчивой. Они хотели видеть в ней то, чего в ней не было. Они хотели, чтобы она была такой, как они. И сломали ее».
Необходимо ли здесь дополнительное проговаривание, в то время как история Лены уже рассказана? Мы уже видим героиню сломленной, безвольно плывущей по течению прямиком в расставленные сети.
Особое внимание Анастасия Писченкова-Шипинская уделяет взаимоотношениям пожилой пары, используя диалоги и детали невербальной коммуникации:
«Господи! — вдруг заорала хозяйка. — Как я с тобой живу столько лет?! Вечно тебе нет дела.
— А тебе вечно есть дело до всего!».
Общение Екатерины Андреевны и Николая Степановича состоит из постоянных препирательств, но заметна особая согласованность, которая рождается в паре, сложившейся очень давно. Это делает образы живыми и узнаваемыми.
А вот какую характеристику автор дает семье избранника Лены:
«Афанасьевы. Фамилия звучала как отголосок чего-то крепкого, надежного, уходящего корнями в самое сердце земли. Они были своего рода аристократами этой маленькой деревенской республики».
На деле же Афанасьевы оказываются людьми, которых точно не нельзя назвать надежными: из-за махинаций в деле суррогатного материнства Паша уезжает и бросает семью, его жена Лена вынуждена поселиться в чужом доме.
Сам Паша появляется в романе единожды — во время побега, а вот его отцу, Григорию Петровичу, в тексте уделено больше места, его образ не ограничивается шаблоном бессердечного дельца. На первый взгляд, Григорий Петрович — холодный, жестокий человек, он мстит за старую обиду самым бесчеловечным образом. Когда Паша только родился, жена Григория Петровича не могла выкормить ребенка и попросила Екатерину Андреевну украсть молока. Вот она — дилемма, которую автор предлагает на суд читателям. Украсть или нет ради голодающего младенца? В разговоре Екатерина Андреевна отмахивается от вопроса, упоминая свой отказ вскользь. Но остановимся на минуту: каково же пришлось Афанасьевым в то время? Каким был этот отказ, раз Григорий Петрович пронес боль через всю жизнь? Конечно, хочется спросить: неужели у влиятельной семьи не нашлось другого способа отомстить Екатерине Андреевне, кроме как заставить Лену стать суррогатной матерью? Интрига, заслуживающая семейства Борджиа.
Григорий Петрович отказывается нести ответственность за выбор Паши, когда узнает, что сын подыскивал суррогатных матерей для состоятельных заказчиков:
«Я не учил его такому. Я НЕ УЧИЛ».
В то же время ноша ответственности тяжела и для Паши, вот как он объясняет свой выбор:
«Я завидовал тебе, я был твоей тенью. Я не мог простить тебе твой успех и что в нашей семье главный — ты».
Клубок взаимных обид запутывается, виноваты все и не виноват никто.
Конфликт отцов и детей, как известно, вечен, и писатель не берется за его разрешение:
«Мы пытаемся опираться на опыт наших родителей, которые, в свою очередь, опирались на опыт своих, но такая система только сгущает тьму, потому как мир постоянно меняется. И вот из этой непроглядной тьмы мы все равно отчаянно пытаемся направить детей, давая им советы, как будто у нас в руках карта сокровищ, а не кусок измятой салфетки с пометками «где-то здесь»».
После исчезновения мужа Лена попадает в семью Алины и Руслана. За внешним благополучием состоятельной четы скрывается бездушие. Их дом кажется Лене стерильным, а гостеприимство — нарочитым. Несколько раз упоминается, что Алина похожа на фарфоровую куклу. Кроме прямого сравнения с паяцем есть удачные находки:
«Алина сделала еще глоток. Вино испарилось в ее гортани, будто это был не алкоголь, а кислород, необходимый для поддержания ее призрачного существования».
В отличие от Григория Петровича, она лишена скрытых мотивов, помимо обогащения. Однако хочется узнать, действительно ли красивая жизнь Алины приносит ей счастье? Героиня пережила большое горе, потеряв новорожденного ребенка — как это изменило ее? Есть ли в ней что-то, кроме жажды наживы?
Семьи полицейских Кириллова и Волкова на фоне таких бедствий и подлостей выглядят почти идеальными. В этих семьях близкие заботятся друг о друге, но без удушающего контроля, относятся с пониманием к супругам, а к детям — с любовью. На их примере писатель показывает, как можно строить отношения в семье. Вот какие наставления родители дают детям:
«Дети мои, — сказала она мягко, как будто говорила со сцены театра, — каждый из нас сам выбирает, в каком мире ему жить. Можно, как Шрам, выбрать тьму и окружить себя теми, кто готов на все ради выгоды — гиенами. А можно выбрать добро и пытаться строить что-то светлое — как Симба с друзьями».
Здесь особенно заметна наставническая роль, которую берет на себя автор. Через образы из популярного мультфильма он втолковывает читателям, какие ориентиры выбирать в жизни. Читатель низводится до уровня ребенка, ему объясняют, как все устроено:
«Один хороший человек способен изменить жизнь сотен других. Примеры этому — учителя, врачи, пожарные, полицейские».
Самое время вспомнить, что Анастасия Писченкова-Шипинская изначально обращается к сказке, уже в названии текста указывая на то, что нас ждет поучительная, но в то же время волшебная история. Сказочный язык проникает и в сам текст: «Чудо ли это было? Станет ясно совсем-совсем скоро».
Несмотря на узнаваемые современные реалии, писатель прибегает к фантастическим деталям, в основном это касается топонимов: Тосква, Степь, «мой дед сражался в Великой Битве, отец — в Молчаливых краях». Если бы речь шла о реалистическом тексте, можно было бы усомниться в необходимости создания альтернативной реальности, но так как автор работает со сказкой, то, возможно, выдуманные топонимы решают художественную задачу.
Итак, автору не чужда образность, поэтому стоить обратить внимание на стандартные конструкции, штампы, которые можно заменить: плакала навзрыд, голубой экран телевизора, горел желанием, звенящая тишина, от неожиданности аж подпрыгнула, неповторимая атмосфера, крик выбесил. Или: «Кириллов от удивления уронил на пол свой блокнот»; «Повисла пауза. Все были шокированы». Если все были шокированы, как именно они выглядели, на что похоже их удивление? Сравним с удачным образным примером: «их голоса переплетались, как сухие ветки в зимнем лесу».
Следует также уделить внимание стилистическим решениям: «На пороге появились заплаканный ребенок и Екатерина Андреевна с не менее расстроенным лицом»; «Они пожали друг другу руки, еще не догадываясь, что жмут их друг другу в последний раз»; «в один из первых дней учительница по русскому языку на одной из перемен», «быстро накинула». Некоторые синтаксические конструкции затрудняют чтение: «надеются на то, что останутся незамеченными никогда»; «и поодаль и ее муж, еще подросток»; «все взгляды в комнате стали прикованы к ним».
В роли наставника писатель все-таки выносит вердикт по поводу ряда этических дилемм, прибегая к сказочному делению на черное и белое. Суррогатное материнство оценивается как абсолютное зло. Вернемся к теме фальшивого и настоящего: все, что связано с бизнесом Паши — враждебно природе. Голоса работников медицинского центра искусственные, на приеме они разыгрывают сцену, призванную одурачить клиента, обстановка клиники не внушает доверия:
«Волков не любил такие места. Фальшивая уютность, приторная музыка из динамиков, липкие столы — все это действовало ему на нервы».
Наконец сама идея суррогатного материнства, когда ребенок выращивается в теле чужой женщины, по мнению писателя, противоречит законам природы и традициям:
«Мы все знаем, что мир далеко не идеален, но у каждого из нас есть какой-то абсолют, незыблемость, которая дает всему смысл. Разве связь матери и ребенка не одна из таких вещей?».
Цинизм бизнесменов и врачей, занимающихся суррогатным материнством, поражает капитана Кириллова, хотя, казалось бы, он должен был многое повидать на службе. Оценка, эмоция здесь опережают художественный текст. Конечно, этические аспекты суррогатного материнства вызывают споры, однако не всем читателям будет понятно, почему все положительные герои безоговорочно считают суррогатное материнство преступлением против человечества. Автор верно подмечает, что у каждого из нас есть «какой-то абсолют», но такой абсолют не един для всех.
Рассуждая на эту, Анастасия Писченкова-Шипинская пишет, что суррогатные матери отдавали «детей чужим людям, часто таким, которые не заслуживали иметь детей». Приходит на ум вопрос: по каким критериям писатель определил, кто не заслуживает иметь детей? Если есть недостойные люди, значит существуют и бездетные, кто «заслуживает» иметь детей? А таким суррогатная мать может помочь? Если да, то почему это называют продажей детей? В данном контексте автор действительно берется за очень сложную тему, подсвечивая лишь одну ее сторону.
Однозначность суждений пугает читателя: «И как бы там ни было, вы же семья, вы не имеете права не сделать шаг навстречу». То же касается открытой критики, выходящей за пределы сказочного сюжета: «Свадьба… Само слово звучит как мелодия, как обещание вечной любви и безграничного счастья. Но что мы видим, глядя на современные торжества? Зачастую — тщательно выстроенные декорации, призванные поразить воображение и собрать лайки в соцсетях. В этой суете теряется истинный смысл свадебного обряда — единение родов, укрепление корней».
С этой точки зрения прозу Анастасии Писченковой-Шипинской можно назвать философско-бытовой. Она изобилует размышлениями — тезисами и выводами, риторическими вопросами: «Что такое любовь? Игра гормонов? Идеализация? Или же истинные чувства — лишь иллюзия? А дружба?»; «Но что такое прощение? Восхождение на Голгофу?». Автор честно пытается дать ответы на непростые вопросы. После каждой сцены, подобно школьному учителю дает анализ, разъясняет читателю: здесь произошло то и это, дела обстоят так-то. Этот герой повел себя так, а другой эдак, отсюда вывод.
С одной стороны, писатель реализует воспитательную функцию литературы и не бросает читателя внутри конфликта, не оставляет наедине со страшными темами, пытаясь на каждый вопрос найти универсальный ответ. С другой стороны, читатель лишается самостоятельности, а повествование постоянно делает остановку для размышлений. Определенной категории читателей, которые готовы идти вслед за автором, будет комфортно в таком тексте — их можно назвать слушателями сказки. Но читатель, претендующий на самостоятельность, ощутит авторское давление.
Как уже было замечено, писателю вполне удается рассказывать сказочную историю, он работает с внутренним миром персонажей, закручивает сюжетные повороты в твисты, где нужно — создает атмосферу загадки, рисует запоминающиеся портреты, например:
«С первых минут Лена почувствовала в этой женщине свет. Такой свет рождается в женщинах, прошедших весь путь инициации: девочка, девушка, женщина, мать, бабушка. Это не просто хронологический путь, а глубокое погружение в собственную дикую природу, подобное древним обрядам, когда девочка покидала привычный мир своего детства, чтобы столкнуться с неизведанными силами, живущими в ней самой».
Такой портрет показывает историю персонажа в динамике, являя суть характера — природную, корневую. Но иногда в тексте встречаются прямые формулировки без какой-либо истории либо дублирующие сказанное:
«Помнишь дочку Лены Золушку, которая жила в нашем доме, помнишь? Дочка Лены, помнишь? Она все изменила».
Настолько прямая отсылка к названию действует как барьер, о который невольно спотыкаешься. «Вот так бывает: человек пришел внезапно, буквально из ниоткуда, но стал всем», — было бы интересно в самой истории разглядеть, что именно изменила Золушка. Особенно интересно остановиться на изменении целых поколений, как заявлено в названии.
Кириллов и Волков помогают раскрыть дело о незаконной передаче детей суррогатными матерями богатым заказчикам. Если бы в участок Кириллова не попала Золушка, брошенная Леной на дороге, расследования бы не было. Получается, девочка косвенно поспособствовала закрытию агентства, занимающегося суррогатным материнством. Прервалась цепочка по созданию «ничейных» детей, от которых отказались и биологические родители, и суррогатная мать. Сели в тюрьму виновные. Это судьбы двух поколений. Если остановиться на семье Екатерины Андреевны и Николая Степановича, насчитаем три поколения.
Прочитав дневник Лены, Екатерина Андреевна задумалась о том, как устроена их семья, правильно ли они воспитывали дочь. Здесь писатель отходит от сказки в сторону жизни — героиня не прозрела в момент, но ощутила сложный комплекс эмоций, в том числе злость. Изменения Николая Степановича не показаны, дневнику он не уделяет должного внимания, но спустя годы, уже в общении с внучками мы видим удивительно осознанного человека:
«Ваша мама, — сказал он, — подарила вам то, чего не смогли дать ей мы. Она разрешила вам быть собой. Она увидела в вас то, что мы не смогли увидеть в ней. Она дала вам свободу. А это самый, если не самый-самый, дорогой подарок на свете».
Изменилась ли судьба Лены? Она жила в семье Алины, даже несмотря на то, что злодейка украла ее деньги. Непонятно, почему она не пыталась предпринять хоть что-нибудь, чтобы вырваться из плена, найти мужа, обратиться за помощью к свекру, родителям. Из предсмертного письма Лены, мы понимаем, что ей так и не удалось повзрослеть, Кириллов прочитал «исповедь не взрослой женщины, а дневник обиженного подростка. Столько обид…».
Яд обиды, отравляющий жизнь, —– сквозная тема романа. Лена обижена на родителей, на судьбу, Золушка — на суррогатную мать, биологических родителей и тоже на судьбу, другие дети Лены — Катя и Маша — полны невысказанного. Образы девочек раскрываются в третьей части текста неожиданным образом. Оказывается, что в этой истории пострадали не только Лена, которой пришлось одной растить троих детей, в том числе чужого ребенка, не только Золушка, осознавшая свое сиротство, но и другие дети. Сестрам Золушки пришлось нелегко. Их сводная сестра — особенная, ей уделялось больше внимания. Во всех бедствиях, которые пришлось пережить семье, девочки обвиняли Золушку. Это крайне любопытно, потому что вписывается в постмодернистский контекст переосмысления образов сказочных злодеев, когда Малефисента, Румпельштильцхен и другие злодеи оказываются глубоко травмированными, несчастными людьми. Кстати, в фильме «Гадкая сестра» 2025 года сестра Золушки и вовсе становится главной героиней. По Писченковой-Шипинской, Катя и Маша обижали Золушку, потому что сами были обиженными, их душу отравил яд. Когда Настя исповедовалась Кириллову, она говорит: «Я не виновата». Кириллов отвечает: «Я знаю». Автор поясняет: «Этого «я знаю» очень часто не хватает каждому человеку на Земле».
Это одна из самых сильных сцен книги, которая добирается до глубины души. Можно провести параллель с фильмом «Умница Уилл Хантинг», где психолог несколько раз — бесконечно — повторяет главному герою: «Это не твоя вина. Это не твоя вина. Это не твоя вина». Герой плачет — впервые в жизни, потому что наконец случилась валидация — его заметили, он ценен, его чувства важны, он не виноват в проступках родителей. То же происходит с Настей и Катей. Жаль, что эти слова не услышала Лена — легко осудить ее за то, что она отдала ребенка Динаре, потом бросила на дороге, но никто не знает, как бы поступил на ее месте.
У Маши исповедоваться не получилось — она хочет отомстить Золушке, рассказав о смерти матери на свадьбе. Тут вновь появляется настоящая крестная фея Золушки — Кириллов. Во-первых, он расследовал дело Золушки. Во-вторых, дал ей дом, когда девочка сбежала из дома, узнав о том, что Лена — «ненастоящая» мать. В-третьих, переписал прощальное письмо Лены и заставил Машу прочитать его на свадьбе. Настоящее письмо, полное боли, упреков и сожалений, Кириллов сжег. Виновные отомщены, влюбленные празднуют свадьбу — по-сказочному хороший финал. Но можно ли назвать правильным поступок Кириллова? Имел ли капитан право не просто сжигать чужое письмо, но еще и переписывать его? Поблагодарит ли его Настя, ведь она все равно узнает о смерти матери и то, что от нее опять скрыли правду. Поблагодарят ли его Катя и Маша?
Однако у автора есть поистине христианский ответ:
«Но даже в такой непростой ситуации Бог предусмотрел для каждого на земле лекарство. Это лекарство может сорвать все ядовитые цветы и излечить от любых недугов. Имя ему — любовь…».
Роман «Золушка: Ребенок, изменивший судьбу целых поколений» Анастасии Писченковой-Шипинской может подойти издательствам, публикующим книги о семейных тайнах («Эксмо», серия «Семейные тайны» издательства «Центрполиграф»), young adult-литературу под хештегом #foundfamily («Inspiria»), романы для женской аудитории (серия «Время читать женщин» «Редакции Елены Шубиной», серия «Современный женский роман» издательства «Букмастер»). Кроме того, отметим, что текст кинематографичен и годится для создания сериала. Синопсис потенциального сериала возможно отправить на соответствующие питчинги и конкурсы, а также киностудиям, принимающим сценарии сериалов.
Ксюша Вежбицкая: личная страница.
Анастасия Писченкова-Шипинская. Человек с горячим сердцем и холодным умом. Выбрала профессию журналистики, мечтая вдохновить людей на добрые дела своими историями. Получила профессию в Белорусском государственном университете. На протяжении своей карьеры трудилась судебным репортером, нарабатывая уникальный опыт и анализируя события в самых разных сферах. Позднее перешла в пресс-службы международных организаций, занимающихся социальными проектами. Анастасия считает, что истинная сила людей заключается в движении навстречу друг другу.




