
Елизавета, вы помните первый фильм ужасов, с которого началась ваша любовь к этому жанру? Расскажите об этом.
Я хорошо помню свое первое соприкосновение со страшным на экране. Это был даже не фильм ужасов, а сцена создания орков во «Властелине колец». Если говорить про хорроры, то для меня ярким воспоминанием было, как мы после уроков в школе ходили в кино. Так, я посмотрела «Ведьму из Блэр», «Паранормальное явление», «Астрал» и «Пилу». Еще ребенком я любила страшные истории, поэтому не могу вспомнить, с чего конкретно все началось. Но, наверное, после просмотра франшизы «Крик» я поняла, что буду заниматься этим профессионально.
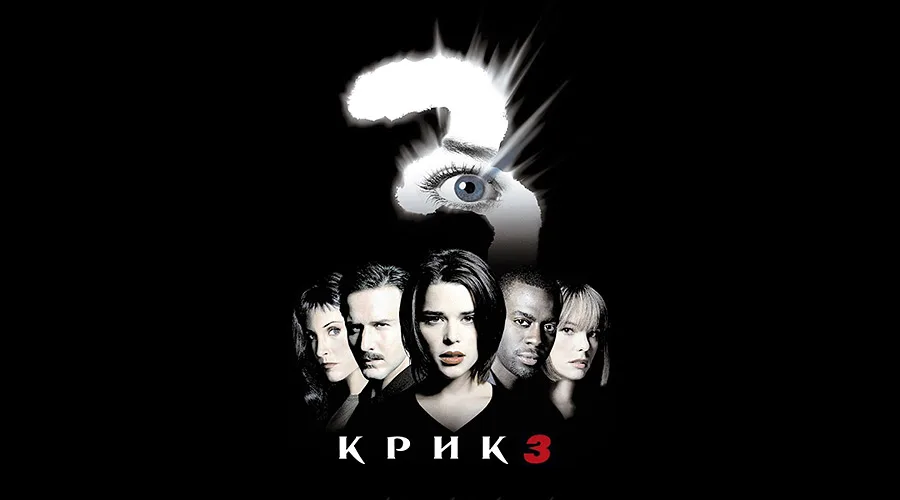
Фрагмент постера третьего фильма «Крик» (2000)
По образованию вы культуролог. Как вам пришла идея объединить любовь к ужасам и исследовательскую работу? Есть ли что-то еще, что вы исследуете как культуролог?
Я невероятно ценю культурологию как науку, позволяющую исследовать практически что угодно. За время обучения я изучала и работу музеев, и антропологию социальных сетей, и смеховую культуру Средневековья. Культурология как блок знаний включает в себя большое количество теорий и перспектив, что учит тебя использовать различную оптику. И поскольку багаж исторических знаний, прочитанных книг и культурных теорий всегда с нами, мы вполне можем примерить определенные «линзы» при просмотре хорроров и посмотреть на так называемые ужастики под новым углом. Я так и сделала, хочется верить.

Елизавета Притыкина на ММКЯ (2025)
Вы написали книгу «Очень страшное кино: история фильмов ужасов». Сколько фильмов вам пришлось посмотреть, чтобы ее написать? Сколько времени заняла работа над книгой? Расскажите подробнее о процессе написания.
Боюсь, мне не сосчитать, но в самый активный период написания я смотрела и пересматривала около трех фильмов в день. Рассказы о многих из них не вошли в финальный текст, но мне все равно было важно это изучить для погружения и во временной контекст, и в жанр. Это был невероятный период жизни, где я только этим и жила. Я говорила только о книге, только о ней думала и только ее и писала. Сейчас я вспоминаю то время с ностальгией и долей романтики, но друзья, которые поддерживали меня в процессе написания, быстро спускают меня с небес на землю, потому что постоянное чтение и просмотр ужасов, конечно, создавал определенный эмоциональный фон.
1.png)
Книга Елизаветы Притыкиной «Очень страшное кино: история фильмов ужасов» (АСТ, 2025)
Во время недавней презентации книги в книжном магазине вы сказали, что просмотр ужасов — это возможность безопасно прожить свои страхи. Как вы считаете, почему у людей есть такая потребность?
Страх — это базовая человеческая эмоция, которую, чтобы оставаться в нормальном психологическом состоянии, мы должны проживать. Возможностей, чтобы безопасно прожить свой страх, в современном мире не всегда достаточно, поэтому мы и обращаемся к аттракционам, страшным квестам или фильмам ужасов. Как бы мы ни погружались в происходящее на экране, это контролируемый страх, и даже если сильно бояться, мы выключим телевизор через два часа и все исчезнет. Некоторые люди используют просмотр ужасов для того, чтобы снизить свой уровень тревоги, и это работает.
Сегодня, несмотря на прогресс, мы недалеко ушли от людей у костра, рассказывающих страшные истории. Хоррор — это жанр, в котором каждый, даже самый боязливый зритель, найдет что-то свое, а значит сможет соприкоснуться со своим страхом, которого может избегать в обычной жизни. И кто знает, что это взаимодействие принесет? Я не говорю, что люди должны «лечить» свои фобии фильмами ужасов, ведь для многих именно просмотренный когда-то хоррор стал причиной ночных кошмаров, но просмотр фильмов ужасов — это прекрасная возможность для внутренней рефлексии, для исследования себя, того, чего мы боимся и причин страха.
Как и откуда режиссеры и сценаристы черпают идеи для этого жанра? Связаны ли страшилки, которыми нас пугают, с историческим контекстом?
Конечно, несмотря на универсальный страх смерти, в тот или иной период времени определенный страх в обществе преобладает. Например, страх ядерной войны, красной угрозы или новых технологий. Эти страхи проявляют себя, например, как причина появления различных монстров. Некоторые фильмы — это прямые реакции на катастрофы. Например, «Монстро» 2007 года является реакцией на трагедию 11 сентября. В «Годзилле» 1954 года в кадрах разрушенного монстром города мы угадываем фото послевоенного Токио.
Полагаю, что идеи «страшного» всегда летают в воздухе и для режиссеров очевидно, о чем снимать кино. А мы с вами смотрим фильм и видим отпечаток эпохи.
.png)
Постеры известных фильмов
Расскажите о том, какие темы в хоррорах поднимались последние лет 5? Что волнует людей и чего они боятся?
Последнее время идут дискуссии о существовании такого явления как пост-хорроры — фильмы ужасов, которые ориентируются на психологические аспекты страха. То есть в сравнении со слэшерами, где за группой подростков гоняется маньяк, в пост-хоррорах мы видим исследование внутреннего мира героев, их потаенных страхов, и как их травмы превращаются в настоящих чудовищ на экране. Сейчас мы видим больше картин о том, как смириться с неизбежностью смерти, как пережить утрату близкого и принять себя. Вопросы романтических и семейных отношений, а также телесности интригуют режиссеров современных хорроров.
В чем, на ваш взгляд, состоит культурная функция хоррора в современном обществе? И в чем состояла ранее?
Хоррор как кино, в том числе развлекательное, конечно, никому ничего не должен. Он прекрасен сам по себе как аттракцион. Но прелесть в том, что как маргинализированный жанр он всегда мог позволить себе больше свободы в высказываниях и действиях. Возьмем, к примеру, «Субстанцию» 2024 года, фильм, который завоевал себе большую популярность и любовь широкой публики, при этом являясь боди-хоррором и, откровенно говоря, о жестокости патриархальных стандартов. Поэтому хорроры были и остаются возможностью рефлексии современных проблем и критики общества.

Кадр из кинофильма «Субстанция» (2024)
Есть ли различия хорроров, создаваемых в разных странах? Какие это различия?
Безусловно, мы говорим не только о странах, но и о различных национальностях, ведь многие сюжеты опираются на фольклор. Американский кинематограф ужасов возможно более узнаваем в мире, но часто и обращается к максимально широкому кругу людей. В России хоррорные истории о маньяках становятся не так популярны, как фильмы ужасов, опирающиеся на фольклор и исследующие то самое хтоническое.
При этом, возьмем, к примеру, образ вампира — мертвеца, который питается кровью живых — это культурная универсалия, которую можно найти в фольклоре разных народов. При этом в разных странах и в разный отрезки времени образ вампира наделяли и разными чертами, и делали вместилищем самых разных страхов.
.png)
Постеры известных фильмов
Представляете ли вы, какое будущее ждет этот жанр? Расскажите о своих прогнозах.
Хоррору чаще, чем всем остальным жанрам пророчат смерть, якобы ничего нового не снимают, ни новых авторов, ни новых идей. Но я вижу только то, что больше картин доходят до широкой публики, появляется больше обсуждений среди кинокритиков и просто в медиа. А определенная шаблонность некоторых поджанров только толкает хорроры вновь переизобретать себя. Так что я вижу только светлое будущее, ведь причин бояться у нас меньше не становится.

Елизавета Притыкина в книжном магазине
Какие мифы или стереотипы о фильмах ужасах вы хотели бы развенчать?
Больше всего меня расстраивает, что до сих пор для многих хорроры остаются только глупыми страшилками, которые не несут в себе ни художественной ценности, ни тем более смысловой. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей смогли оценить долгую историю этого жанра. С другой стороны, то, что хоррор находится где-то между «Оскаром» и «тупым ужастиком», — обеспечивает ему и определенную степень свободы, и, конечно, бунтарства. Было бы странно, если бы мы жили в мире, где для всех хоррор был бы любимым жанром, а любые картины вызывали только восхищение. Все-таки он должен шокировать, а не жалеть зрителя, поэтому пусть остается овеян различными мифами.
Елизавета Притыкина — культуролог, лектор, исследователь кино. Закончила бакалавриат по специальности «Культурология» в МПГУ, и магистратуру по специальности «Culture and Creativity Management» Lund University (Швеция). Работает в креативных индустриях от библиотек до музеев, читает лекции про кино.




