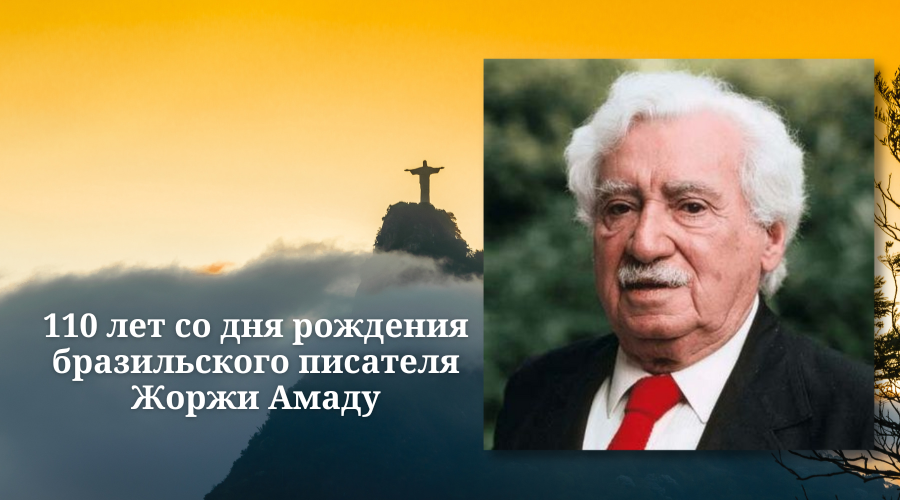
Родился в бразильском штате Баия, на фазенде Ауриси́диа (город Итабуна, современный Салвадор), в семье мелкого плантатора. Детство прошло в городе Ильеус.
Учился на факультете права в университете Рио-де-Жанейро, не окончил из-за финансовых проблем. Здесь впервые познакомился с коммунистическим движением. Работал наборщиком в типографии, газетным репортёром.
Первый роман, «Страна карнавала», был создан в 1932 году. В нём интеллигенты и буржуа Рио-же-Жанейро изображались в сатирическом ключе.
В дальнейшем Амаду создал ряд остросоциальных романов, которые принесли ему известность. Он со знанием дела и сочувствием писал о жизни простых рабочих, крестьян, беспризорников, людей с чёрной кожей. Писал в реалистической манере, влияние на него оказало творчество советских писателей – А. Фадеева, А. Серафимовича, М. Шолохова. Это были романы «Какао» (1933), «Пот» (1934); «Жубиаба» (1935, антирасистский), «Мёртвое море» (1936). В СССР был широко известен роман «Капитаны песка» («Генералы песчаных карьеров», 1937), третья книга из цикла о штате Баия, где быт и современность плотно перемешиваются с национальным фольклором.
«Капитаны песка» обозначили новую ступень художественных поисков Амаду, – пишет советский литературовед Инна Тертерян. – (…) пристальность и беспощадная правдивость, с которой рассмотрена в романе судьба группы баиянских беспризорников, напоминают социологическую протокольность первых книг Амаду – «Какао» и «Пот». Жизнь этих нищих подростков предстает перед нами во всех деталях, порой забавных, порой грубо отталкивающих. Амаду четко обозначает расовые и социальные характеристики каждого члена группы. Он стремится к предельной точности в передаче речи персонажей, не боясь шокировать читателя. И тем не менее эта стихия жесткого документализма прочно сплавляется в романе с другой стихией – фольклорно-поэтической. В убогой жизни героев Амаду неизменно присутствует поэзия. «Капитаны песка», «одетые в лохмотья, грязные, голодные, агрессивные, сыплющие непристойностями и охотящиеся за окурками, были настоящими хозяевами города: они знали его до конца, они любили его до конца, они были его поэтами» – таков авторский комментарий, играющий важную роль в художественном целом романа».
Амаду – активный политический деятель, член коммунистической партии Бразилии. В 30-е годы участвовал в борьбе оппозиционно-радикального Национально-освободительного альянса. Когда в 1937 году альянс потерпел поражение, Амаду был выслан из страны.
Побывал в Западной и Восточной Европе, в Азии и Африке. Неоднократно посещал СССР (автор «Песни о советской земле», позднее Амаду напишет в воспоминаниях: идея коммунизма «привела не к свободе и счастью, а к тирании»).
Следующим произведением Амаду стала социально-революционная дилогия (национальная эпопея) «Бескрайние земли» (1943) и «Город (Сан-Жоржидос) Ильеус» (1944, в русском переводе «Земля золотых плодов», 1948); главной темой этих романов становится борьба за родную землю.
В 1945 году Амаду смог вернуться в Бразилию. Был избран президентом Национальной ассоциации писателей и депутатом Национального конгресса от коммунистической партии.
Однако с 1948 по 1952 год Амаду вновь пришлось пробыть в эмиграции (жил во Франции и Чехословакии). Деятельность коммунистической партии в Бразилии была запрещена.
В романе «Красные всходы» (1946) рассказана трагическая история крестьянской семьи. Здесь Амаду утверждается как писатель социалистического реализма.
Художественные биографические книги «Жизнь Луиса Карлоса Престеса, рыцаря надежды» (1942, в русском переводе – «Луис Карлос Престес», 1951), «Кастро Алвес» (1941), написанные в форме социально-исторического эссе, помогли писателю прийти к книге «Подполье свободы» (1952), панорамному политическому роману о бразильских коммунистах.
Далее Ж. Амаду, в полной мере занявшись литературой, избавляется от политики и идеологии в своих произведениях и создаёт романы «из народной жизни» – «Габриэла, гвоздика и корица. Хроника одного провинциального города» (1958, в русском переводе – «Габриэла», 1961), «Старые моряки, или Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган» (1961), «Пастыри ночи» (1964), «Дона Флор и два её мужа» (1966), «Лавка чудес» (1969), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1972), «Исчезновение святой» (1988). Теперь Ж. Амаду – «певец родной Баии» в полную силу своего таланта. Все эти романы насыщены традиционным афроамериканским фольклором и тропической экзотикой, воплотили своеобразие мифологически-мистического мироощущения латиноамериканцев (знаменитый магический реализм). В центре книг Амаду – энергия и мощь национального характера, быт и нравы простых людей, богатство человеческой души.
По собственному утверждению Амаду, он писал свои произведения не на португальском языке, а на «чудесном афро-бразильском наречии – по-баиянски».
«Годы отрочества, проведенные на улицах Баия, в порту, на рынках и ярмарках, на народном празднике или на состязании в капоэйре, на магическом кандомбле или на паперти столетних церквей, – вот мой лучший университет. Здесь мне был дарован хлеб поэзии, здесь я узнал боль и радости моего народа», – сказал Амаду в речи при вступлении в Бразильскую Академию литературы в 1961 году.
Во многих его произведениях в качестве персонажей фигурируют божества ориша, которым поклоняются в кандомбле – афро-бразильской религии. В её основе как раз и лежит поклонение духам ориша, связанным со стихиями, различными видами человеческой деятельности и духовными аспектами. Амаду очеловечивает богов; африканцы воспринимают своих богов похожими на людей. И всё это удивительным образом сосуществует с католицизмом.
Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1951). Член Всемирного Совета Мира. Академик Бразильской Академии искусств и литературы (1961).
Жоржи Амаду, «Дона Флор и два её мужа»
роман, фрагмент, начало (сноски опущены)
ДОНА ФЛОР ПРОТИВ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА
В романе «Дона Флор и два ее мужа» я поставил перед собою две задачи. Прежде всего, дать широкую панораму современной баиянской жизни, картину обычаев, нравов, условий и условностей, окрашенную колоритом Салвадора, единственного в своем роде города, где смешались все расы. В широкой панораме баиянской жизни мне хотелось запечатлеть все характерные штрихи быта, которые теперь постепенно исчезают с течением времени: архитектуру, фольклор, музыку, кухню – в общем все то, что в совокупности отражает самый дух народа, его своеобразие, его национальную культуру. Мне хотелось также передать особенности местного говора, отличающегося поэтичностью и изяществом. Думаю, что именно бразильский колорит романа (бразильский потому, что Байя – это и есть Бразилия) и является одной из причин его успеха не только в Бразилии, но и в других странах. Ибо роман этот – и в самом деле панорама баиянской жизни.
Но дело не только в этом. Вторая моя задача была более сложной и отнюдь не сводилась к описанию истории двух замужеств доны Флор, хотя именно эта история дала автору возможность высмеять мелкую буржуазию, ограниченность ее горизонтов, ее неспособность к полнокровной жизни, ее нелепые и смешные предрассудки. Мещанство – это класс, лишенный перспектив, обуреваемый мелочными стремлениями и претензиями, пытающийся добиться привилегий, которыми несправедливо обладает буржуазия. Я хотел показать в этом романе издавна существующий контраст между жизнью народа – тяжелой, страшной, поистине трагической, которую он, однако, переносит с мужеством, решимостью, упорством, настоящим героизмом, всегда веря в лучшее будущее, и нелепой, никчемной жизнью мелкой буржуазии. Достаточно вдуматься в содержание романа, чтобы убедиться: из всех затруднений дону Флор неизменно выручает народ в лице того или иного персонажа книги.
Эту ограниченность жизненных горизонтов, этот почти полный отказ от истинных ценностей жизни, эту деградацию мещанства я показал сквозь призму самого глубокого, благородного и бессмертного чувства – чувства любви. Я хотел также показать, что в буржуазной среде это чувство становится едва ли не преступным и что в наше время лишь люди из народа умеют любить по-настоящему.
Дона Флор, зажатая в железные тиски буржуазного общества, не сразу могла отличить ложь от правды; она жаждет любви и отказывается от нее, ее решимость снова и снова отступает перед робостью. Но с помощью простых людей этой поистине волшебной Баии она восстает против предрассудков, против всего, что угнетает и уродует любовь, делая ее либо низменной, либо преступной, против всего, что мешает человеку любить. В конце романа дона Флор твердо стоит на ногах, она борется. Такова была моя вторая задача.
Для моего романа, как и для бразильского романа вообще, характерна вера в народ и его судьбу. Как и другие мои произведения, эта книга – за будущее и против прошлого.
Жоржи Амаду
ТАЙНАЯ, ВОЛНУЮЩАЯ ИСТОРИЯ, ПЕРЕЖИТАЯ ДОНОЙ ФЛОР, ПОЧЕТНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЕЙ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА, И ЕЕ ДВУМЯ МУЖЬЯМИ: ПЕРВЫМ, ПО ПРОЗВИЩУ ГУЛЯКА, ВТОРЫМ – АПТЕКАРЕМ ПО ИМЕНИ Д-Р ТЕОДОРО МАДУРЕЙРА, ИЛИ СТРАШНАЯ БОРЬБА МЕЖДУ ДУХОМ И ПЛОТЬЮ
История эта рассказана Жоржи Амаду, народным сочинителем, обосновавшимся в городе Салвадор, в Бухте Всех Святых, в квартале Рио-Вермельо, по соседству с площадью Сант-Ана, где обитает Йеманжа, повелительница вод.
MCMLXVI
«Бог – толстый»
(откровение Гуляки, сделанное им по возвращении из загробного мира)
«Земля – голубая»
(заявил Гагарин после первого полета в космос)
«Каждой вещи свое место, и каждая вещь на своем месте»
(надпись на стене в аптеке д-ра Теодоро Мадурейры)
«Ах!»
(вздохнула дона Флор)
ДОРОГОЙ ДРУГ ЖОРЖИ АМАДУ!
Если говорить откровенно, то мой пирог из маниоки не имеет определенного рецепта. О том, как его готовить, мне рассказала дона Алда, жена Ренато, который работает в музее. Однако, прежде чем я научилась выпекать его как следует, мне пришлось немало повозиться. (Впрочем, кто же научится любить, не любя, или жить, не прожив жизни?)
Можно испечь два десятка пирожков из маниокового теста, а если пожелаете, то и больше, но посоветуйте доне Зелии испечь сразу один большой пирог. Он всегда приходится всем по вкусу. Даже они оба, столь не похожие друг на друга, только в этом сошлись и обожали пирог из маниокового или кукурузного теста. Только ли пирог? Ах, сеу Жоржи, не бередите моей раны. Сахар, соль, тертый сыр, сливочное масло, кокосовое молоко и мякоть кокосового ореха – необходимо и то и другое (как говорил мне один сеньор, пишущий в газетах: почему сердцу человеческому мало одной любви и оно всегда ищет вторую?) – и класть следует все по вкусу. Ведь у каждого свой вкус: один любит посолонее, другой – послаще, не правда ли? Все это хорошенько размешать и сунуть в раскаленную печь.
Думаю, что Вы меня поймете, сеу Жоржи, поэтому шлю Вам не рецепт, а только записку. И пирог. Если он Вам понравится, скажите. Как поживают ваши? У нас все в порядке. Купили еще один пай в аптеке, сняли на летний сезон дом в Итапарике, очень комфортабельный. Что касается остального – Вы знаете, что я имею в виду, – то тут, как говорится, ничего не поделаешь. О своих бессонных ночах я Вам не рассказываю, это было бы бестактно с моей стороны. Но зарю над морем все еще зажигает Ваша покорная слуга.
Флорипедес Пайва Мадурейра дона Флор дос Гимараэнс (Записка, недавно полученная автором от доны Флор).
I. О СМЕРТИ ГУЛЯКИ, ПЕРВОГО МУЖА ДОНЫ ФЛОР, О БДЕНИИ У ЕГО ГРОБА И ЕГО ПОХОРОНАХ
(Под аккомпанемент кавакиньо несравненного Карлиньоса Маскареньяса)
КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА «ВКУС И ИСКУССТВО» КОГДА И ЧТО СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ ВО ВРЕМЯ БДЕНИЯ У ГРОБА ПОКОЙНИКА
(Ответ доны Флор на вопрос одной из учениц)
Несмотря на смятение, которое обычно царит в доме покойника в первый день после его смерти, полный горя и слез, нельзя допускать, чтобы бдение у гроба проходило кое-как. Если хозяйка дома рыдает или лежит без чувств, если она в отчаянии и ее нельзя оторвать от гроба, одним словом, если ей не до тех, кто пришел почтить память усопшего, хлопоты должен взять на себя кто-либо из родственников или друзей, поскольку никто из присутствующих не ложится спать и всю ночь бедняги проводят без еды и питья, а зимой иногда и в холоде.
Чтобы люди по-настоящему могли отдать дань уважения покойнику и облегчить ему первую, еще неопределенную ночь после смерти, их надо принять радушно, позаботиться о том, чтобы сохранить им силы, накормить и напоить.
Когда и что следует в таких случаях подавать?
Вот вам распорядок на всю ночь. Кофе следует предлагать все время, разумеется, черный. Полный завтрак: кофе с молоком, хлеб, масло, сыр, бисквиты, пирожки из сладкой маниоки или кукурузы, рисовые или кукурузные оладьи с яичницей-глазуньей – утром и только для тех, кто не уходил до рассвета.
Лучше всего постоянно иметь в чайнике горячую воду, тогда не будет недостатка в кофе; ведь люди приходят непрерывно. К черному кофе подают галеты и бисквиты; время от времени гостям следует предлагать бутерброды с сыром, ветчиной, колбасой или же просто легкую закуску; обычно этого вполне достаточно.
Если бдение у гроба устраивается более пышно и на затраты не скупятся, в полночь можно предложить по чашке горячего шоколада или жирного куриного бульона. А затем, если кто пожелает, биточки из трески, жареное мясо, пирожки и всевозможные сласти и засахаренные фрукты.
Помимо кофе, в богатых домах может быть подано пиво или вино – по стакану, не больше – только чтобы залить бульон или жареное мясо. Шампанское ни в коем случае подавать не следует, это считается признаком дурного тона.
Как в богатых, так и в бедных семьях бдение не обходится без водки: может не быть чего угодно, даже кофе, только не кашасы. Бдение без кашасы свидетельствует о неуважении к покойнику, о равнодушии и нелюбви к нему.
Гуляка, первый муж доны Флор, скончался в воскресенье утром во время карнавала, когда в костюме баиянки вдохновенно отплясывал самбу в одной из групп карнавальной процессии на площади Второго июля, неподалеку от своего дома. Он не принадлежал к этой группе, а только что присоединился к ней в компании четырех своих приятелей, тоже одетых баиянками, которые вместе с Гулякой возвращались из бара на площади Кабеса, где виски лилось рекой за счет некоего Мойзеса Алвеса, богатого и расточительного владельца какаовых плантаций.
Во главе этой карнавальной группы шествовал небольшой оркестр гитаристов и флейтистов, среди которых был тощий Карлиньос Маскареньяс, хорошо известный в местных публичных домах. Он играл – и как божественно играл! – на своей маленькой гитаре-кавакиньо. Юноши были одеты в цыганские костюмы, девушки – в костюмы венгерских и румынских крестьянок. Но ни одна венгерка, румынка, болгарка или югославка не могла извиваться в танце так, как извивались эти веселые девушки в расцвете молодости.
Гуляка, завидев появившуюся из-за угла процессию и услышав божественную музыку тощего Маскареньяса, быстро направился ей навстречу и очутился перед пышной, смуглой румынкой, величественной, как церковь. Она и впрямь походила на церковь св. Франциска, так сверкало ее покрытое золотыми блестками платье. Гуляка обратился к ней со словами:
– Вот и я, моя русская красавица…




