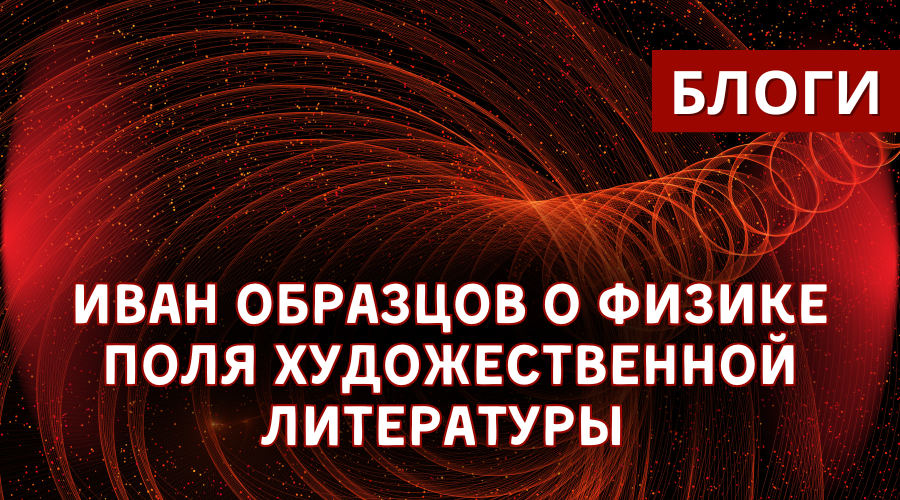
Может показаться, что данный материал есть попытка «алгеброй подсчитать гармонию», но на самом деле подлинный смысл заключается как раз в том, чтобы гармонизировать (переведя на язык гуманитариев) чрезмерно материалистическое мировоззрение, ставшее за последнюю сотню лет доминирующим в сознании представителей современной информационно-техногенной цивилизации. Материал посвящён проблемам и вопросам потенциального будущего отечественной художественной литературы и предполагает у читателей определённую степень понимания основных терминов теоретической физики и наличие представлений об актуальных вопросах теоретического литературоведения» (примечание автора).
Связь эйнштейновской теории гравитации и квантовой теории поля с вопросами языкознания не кажется очевидной. Тем не менее, при соотнесении некоторых параметров языка (хорошо подтверждённых на практике) с физико-математической терминологией такая связь выглядит вполне допустимой. Например, смыслоопределяющее значение тех или иных семантических конструкций играет, несомненно, различную роль в эволюции языка художественной прозы (да и вообще в художественных произведениях как продуктах высшей психической деятельности человека), и роль эта определяется через большую или меньшую значимость некоторых из указанных конструкций при формировании публичного художественного высказывания (например, в творчестве А. Платонова, М. Зощенко, Ильфа и Петрова, М. Булгакова, И. Бродского и т.д.).
Тем не менее, в основе любой литературы лежат слова́ как основной смыслосодержащий концепт, причём именно этим обусловлено и значение литературы не только как культурологического, но философского и социального явления. Более того, надо заметить, что переход «от мифа к логосу» произошёл сегодня не только и не столько в философии и социологии, сколько в художественной литературе, потому сто́ит попытаться понять, что же означает этот переход? Опираясь на слова́ как основной инструмент работы писателя мы неизбежно должны сделать вывод, что слова́ же являются и основной целью писательского поиска.
Таким образом, каждое слово, как смысловая единица обретает совершенно исключительное значение, когда оно рассматривается в качестве элемента цельного смыслового массива, которым и является художественное произведение – слово обретает в художественном произведении особый тип значимости (весомости или вескости). Будучи объединёнными в цельное и самостоятельное художественное высказывание, слова изменяют читательское сознание и как следствие формируют дальнейшее бытие мифологизированного мышления у каждого отдельно взятого индивида. В данном случае общую степень значимости любого художественного произведения в контексте культуры можно определить как величину «вескости» по аналогии с понятием «массивность» в физике.
Миф как основной объект препарации в современной художественной литературе приобретает устойчивое содержание, основанное на смысловых массивах, имеющихся в наличии слов. Слово же, в более широком значении этого понятия, может быть представлено как единое пространство речи/языка, существующее в мышлении всех без исключения индивидов и по сути формирующее некое единое поле смысловых взаимодействий. В таком случае появляется перспектива рассмотреть речь/язык как некое поле, имеющее не только объекты различной степени вескости (слово как концепт и отдельное художественное высказывание), но и разворачивающееся во времени взаимодействие между вескосными объектами (художественными произведениями). Результатом такого соотнесения гуманитарного с естественнонаучным может быть метафора поля литературы как пространства, состоящего из художественных произведений различной степени вескости и играющих различную роль в развитии литературных традиций вообще.
Важно понимать, что рассмотрение речи/языка как единого поля, а художественных произведений как высшей формы проявления указанного поля, позволяет не просто дать новую интерпретацию имеющимся теориям языкознания и литературоведения, но развить эти теории в более общих понятиях для гуманитарного и естественнонаучного знания. Такой синтетический подход открывает возможности применения известных математических инструментов теоретической физики для более глубокого понимания таких направлений исследований как искусственный интеллект, нейросети, поисковые программы и др. Но особую привлекательность составляет применение такого подхода к пониманию развития поля литературы как пространства разнонапряжённых вескосных элементов (художественных произведений), взаимодействующих со смысловыми массивами языка (внутри и между индивидами) в актуальном медийном дискурсе.
Что же касается применимости, то хотя мы до сих пор и не можем точно описать процесс, когда и как смысловые категории меняют сознание с помощью конкретных электрических импульсов в мозге, но, возможно, применение теоретических моделей физики позволит прояснить этот процесс с точки зрения гуманитарно-философского подхода. Наглядный пример – это фонология, где изучаются звуковые импульсы, называемые фонемами. Чувственные эффекты, возникающие при восприятии тех или иных фонем, указывают на связь электромагнитных явлений с работой интеллекта. В результате мы можем, например, говорить о теории стихосложения не только с точки зрения развития стилей и жанров, но и с точки зрения конкретных эффектов (фонетического благозвучия или резонанса), изменяющих чувственное восприятие текста и делающих тот или иной текст значимым объектом современного поля литературы. Тот же эффект можно продемонстрировать и на примерах функционирования внутри и между художественными текстами: их индивидуальной семантики, восприятия этой семантики читающим индивидом, изменений в индивидуальном читательском представлении существующей картины мира и т.д.
Отдельного внимания требует проблема дискретности мышления, которая буквально отсылает нас к постулатам о дискретности в известных физических процессах, в том числе в квантовой физике. Художественная речь, состоящая из отдельных элементов и организующая сознание читателя (кажущееся возникающим и существующим в цельности), одним этим фактом демонстрирует свою дискретную основу. Важно понимать, что разговор идёт не об исследовании процессов зрения, слуха, осязания, а об исследовании феномена мышления как дискретного и в то же время эмерджентного (возникающего) процесса. Именно такое «возникновение» новых смыслов и чувств является одним из самых известных эффектов художественной литературы, поэтому говорить сегодня о любых создаваемых художественных произведениях необходимо, прежде всего, с точки зрения их смыслового содержания, изменяющего сознание читателей и формирующего новые вескосные (значимые) смысловые (возникающие) массивы.
Как это происходит, мы можем наблюдать на примере отдельных авторских способов изложения, которые меняют смысловую картину мира читателей, наполняя её (или заполняя) определённым типом актуального дискурса. Подобный феномен изменения читательской смысловой картины мира – это художественные сочинения Виктора Олеговича Пелевина, которые построены как раз на ритмической лёгкости текста (дискретной фонетической игре) и научно-популярном дискурсе (возникающем смысловом массиве). Этот пример показывает, как устроен сам способ формирования смыслов и формирования из этих смыслов устойчивого и значимого (вескосного) массива художественного произведения.
Но одновременно можно увидеть и то, как на такой художественный продукт можно «подсадить» читателя, заменив индивидуальное читательское мышление готовыми смысловыми конструктами. Для такого эффекта важен принцип регулярности, которым вырабатывается рефлекс (подобный условному рефлексу, открытому лауреатом Нобелевской премии 1904 года академиком И.П. Павловым) и этим рефлексом замещается собственная читательская способность к вырабатыванию новых смыслов.
Пелевинская отстранённость от публичных взаимодействий с полем литературы создаёт тот необходимо-мифологизированный образ автора, которым подкрепляется «миф о (не)существовании Виктора Пелевина». Тем самым формируется психическая привязанность читателей к текстам, основанная на «недоступности» автора, его как бы «божественном» надзирании «сверху», из «надмирного бытия». Так ежегодно и регулярно выходящие книги автора становятся практически сакральными текстами, а фигура автора «освящает» читательское сознание с помощью лёгких и весёлых силлогизмов.
В целом, мы можем предположить, что указанный пример относится к категории негативных случаев и может быть реализован лишь в ситуации инфантилизации читательского сознания и общего поля литературы. Потому и основное содержание пелевинского повествования – это мифологизация «логоса», а при всей внешней актуальности дискурса основные его смысловые массивы (вескости) довольно архаичны. Таким образом мы ясно видим основания современной литературы, которая перегружена «логосом», но стремится вернуть статус кво «мифа» через мифологизацию самого слова, автора и смысловых массивов художественного произведения.
Учитывая всё вышесказанное, можно ожидать, что в ближайшее время пелевинские семена будут и дальше прорастать и развиваться (мы уже это наблюдаем сегодня) в жанрах мистического фэнтези, плутовского романа и «всемуоппозиционного» зубоскальства. Так называемая художественная энтропия (или разложение) поля литературы за счёт «облегчения» смыслового наполнения выпускаемых конвейерным способом продуктов и авторов несомненно будет поддерживаться частным коммерческим издат-попом, так как это гарантирует бесперебойные продажи ежегодного развлекательного книжного продукта.
Одновременно с этим, можно ожидать параллельного развития реалистических направлений (поэзии и прозы), так как поле литературы не может существовать без серьёзных вескосных объектов (художественных произведений). Причём реализм просто обязан наследовать древним фольклорно-эпическим традициям и духовному содержанию русской культуры, в противном случае просто не будет оснований для закрепления в речи/языке образов, создаваемых в современных художественных произведениях реалистического направления. Судя по всему, именно реалистическая школа сможет сохранить и преобразовать будущее поле литературы, создав крупные вескосные смысловые массивы в отечественной культуре. В противном случае поле литературы претерпит необратимые энтропийные изменения (в сторону лёгкого развлекательного «чтива на вечер») и исчезнет (как значимое философское и социальное явление) из дискурса современности.




