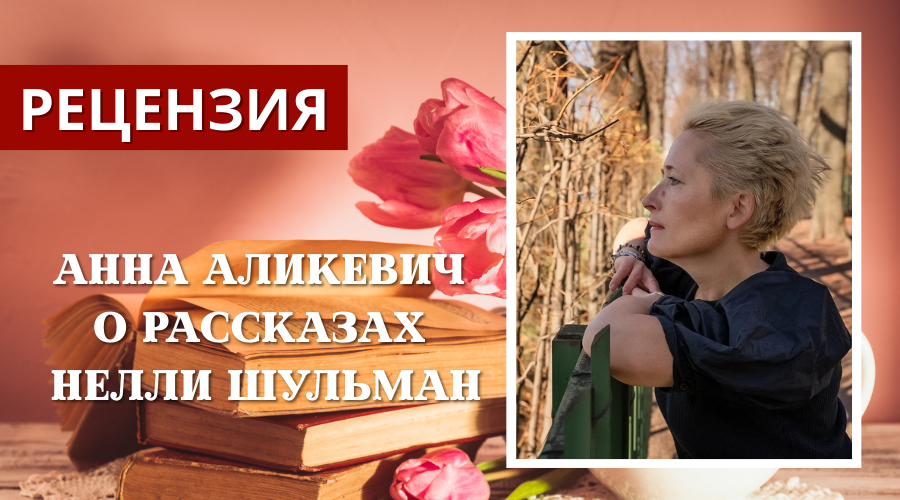
Два рассказа Нелли Шульман — «Алкионовы дни» и «Ангел» — я бы назвала хорошей беллетристикой. Оба они умело выстроены с точки зрения композиции, выдержаны в тональности, актуальны, как это принято говорить, с точки зрения содержания. В то же время стилистика их ближе к популярной прозе, нежели к изыску или художественному новаторству. Не всякая вещь должна цвести средствами выразительности подобно розовому саду, но так уж повелось, что относительно небогатый язык указывает в сторону широкого читателя, а, к примеру, орнаментальная проза — на узкого ценителя. Сюжеты новелл (ибо финал в обоих текстах несколько неожиданный, а это свойственно новелле) связаны с мотивом путешествия, смены локации внутренней и внешней. Герой первой — немолодой профессор Максимов — приезжает в Венецию с целью встретиться с подругой, дамой лет на пять его младше. Хотя кто-то и скажет, что образ влюбленного человека преклонных лет неоднозначен, однако тонкий лиризм вещи отсекает эти риски. Фабула видится мне удачной и оригинальной, тем более что перед нами не «поздняя страсть», популярный мотив европейского декаданса, а возвышенное и нежное чувство практически к ровеснице, переходящее в идиллию. Покритиковать здесь можно разве что некоторую сказочность самой коллизии, но никак не исполнение.
Вторая работа более жесткая, показывающая, что Шульман способна не только к жанру романтической элегии в прозе. Героиня истории об эмиграции по имени Ангел когда-то была сотрудницей московской адвокатской конторы, где и сумела финансово вырасти. Однако теперь наступили серые дни — после начала известных февральских событий она попыталась выехать в Тбилиси, где и встретила своего будущего мужа, инфантильного аспиранта Петечку, спасавшегося от армии на Верхнем Ларсе. Теперь, по итогам всех перипетий, Ангел — дистанционная сотрудница организации с «головкой» в Париже, осуществляющая уборку помещений после скончавшихся клиентов, а ее босс — представитель сей фирмы, специализирующейся на наследственных делах. Эта печальная и не очень уважаемая работа, если называть вещи своими именами, заставляет ее пересмотреть свою жизнь и подвести предварительные итоги. Приведенная коллизия, несмотря на некоторый фантастический колорит, гораздо ближе к реальности.
Текст «Алкионовы дни» двойствен — наивный читатель поймет его одним образом, начитанный — совсем иначе. Однако в названии даже человек поверхностный услышит «что-то античное», указывающее на многослойность (аллюзивность) повествования. Алкей, Алкмена и Эндимион обогащают интеллектуальный багаж тех, кто мучительно пытается вспомнить, о какой эпохе и каком герое пойдет речь. К счастью, всё куда проще, это малоизвестное крылатое выражение, связанное с древней легендой и обозначающее мягкую европейскую зиму, в переносном варианте — благополучный закат жизни. Само такое название подразумевает читателя с кругозором, готового к чему-то более сложному, нежели травелог, дамский детектив или любовный роман. В то же время новелла лишь кажется немного экзотической, однако и ее сюжет, и подоплека, и философия достаточно доступны. Эта изящная игра в «простое и сложное» наводит на мысль, что перед нами уже достаточно искушенный беллетрист. Осмелюсь предположить, что изначально текст рассчитан на рафинированную даму или, как говорят сегодня, «читающую и мыслящую современницу элегантного возраста». Конечно же, переклички с классической «Смертью в Венеции» сразу поселят тревожное предчувствие в душе интеллектуалки: пожилой профессор на отдыхе в легендарном месте, лирический мотив, нагнетание, ретардация... А та, которая менее увлечена европейской классикой, может ничего не заподозрить практически до самого конца! Две разные женщины прочтут две разные истории, в зависимости от своего бэкграунда, и это хороший ход.
В начале рецензии мы упрекнули автора в «сказочности», однако эксплуатация мотива рая, призрачного рая, который у каждого свой (невольно вспоминается набоковский Гумберт, у которого «небеса рдели, как адское пламя»), организует на первый взгляд терапевтическую историю, где Он и Она встретились на склоне лет, и мечты, даже самые невероятные, вдруг сбылись. Кто не мечтает о тихой гавани у лазурного моря, о единстве двух сердец, о понимании, покое и способности ощущать счастье? На плечах словно нет груза лет, проза недугов и неблагополучных детей, бедности и суровости мира отступает в туман, бальзаковский возраст сохраняет свое обаяние, а сердце стареющего педагога — способность увлечься не аспиранткой вдвое младше себя, что еще встречается, но напротив, оценить «старое вино» своего поколения… Это и немецкий образ острова, на котором каждого воина ждет девушка, миф о награде за долгое ожидание, Авалон и другие грезы о несбыточном. С самого начала у чуткого человека закрадется мысль о символичности, странном колорите текста, о том, что события происходят не совсем уже в реальности, это некое преддверие, но к чему? Где происходит эта встреча в предчувствии обретения покоя? В таком понимании это печальная, провидческая и поэтическая вещь. Чем больше возвышенности, тем больше скорби. А кто не копает так глубоко, вспомнит два рассказа Бунина — «Господин из Сан-Франциско» и «В Париже». Главный герой в них погибает накануне обретения награды за труды земные. И если один — не самый достойный человек, то другой скорее заслуживает утешения. Однако смерть уравнивает их, и это наводит на много различных мыслей о причинах и следствиях, смысле добра и зла, (не) связанности событий меж собой. Может быть, и нет на земле такого счастья, волшебных Алкионовых дней, Авалона и воплощения грезы, — а если есть, то на пороге вечности или в пространстве мифа, утешителя людского? Кто знает, что хотел сказать автор.
Очевидны поэтическое начало рассказа, мотив «поэмы в прозе», использование архетипов, философских опор. Не обязательно задумываться об этой сложной конструкции, скрытой под мелодичным сюжетом, немного затянутым, отодвигающим главное на сладкое, а затем ударяющим в гонг судьбы. Нет, здесь вовсе не лирическая проза, где сама история не важна, а первостепенны лишь рассуждения рассказчика о смысле бытия и прошлом. У Шульман, как в детективе, сюжет полноправен и даже порой ведет. Однако его некоторая тривиальность до поры — уступает глубине лиризма. Этот небольшой недостаток компенсируется знающим вниманием и прекрасной детализацией той жизни, которая не грёза. Если влюбленная пожилая пара в сущности плывет в объятия Харона, для нее счастливое воссоединение, как у Булгакова, становится путем в небытие, да еще в таком символическом пейзаже, с приобретением апартаментов, где «почти ничего нет», то подлинная жизнь представлена в тексте как раз дисгармонией, снижением, даже нелепостью. В противовес «идеальной», но безнадежной тропе героев. Как не вспомнить здесь о законах романтизма, где возвышенное дублируется ироническим, приземленным — и на каждого Дон Кихота есть свой Санчо Панса?
Например, вот портрет местной жительницы «Рая», чье условное уродство обречено на долголетие: «за мутным стеклом прачечной самообслуживания крутились барабаны машин, где на дерматиновой банкетке разгадывала кроссворд сильно накрашенная старуха. У ее узловатых ног в войлочных тапочках громоздилась неопрятная кучка шерсти. Древняя болонка, подняв слезящиеся розовые глаза, лениво заворчала». Словно бы существуют два мира, в одном из которых есть Дульсинея, пусть и не юная, а в другом раскрашенная старуха на мешках. Соответственно, и реальности их тоже различны. Или взять сотрудника местного ресторана, именуемого немолодым профессором — дедом. Если только сам герой не молод, такой взгляд — расстояние социальной дистанции между двумя жизнями: «Дед с морщинистыми, поросшими седой щетиной щеками попытался отдать Максимову захватанный листок.
— Меню, меню, — сказал дед на ломаном английском, — меню туристо.
Максимов и не рассчитывал сойти за итальянца. Дед носил обтерханный свитер, однако полосатый шарф на шее был завязан с недостижимой для Максимова лихостью. Опустив глаза, он обнаружил на деде остроносые лакированные туфли».
Кто-то вычитает здесь косвенный посыл автора, что земная жизнь, возможно, в чем-то неидеальна и даже немного безобразна, однако устойчива. А вот желанная греза с самого начала сопровождается образами Харона, запустения монастыря, статуи Мадонны и метафорой Алкионы, утратившей супруга. Если читатель эрудированный, он увидит множество предвестников трагического финала идиллии и главный прием вещи — загадка — окажется для него мнимым. Наивный же гость в полной мере испытает эффект Deus ex machina, в данном случае Его роль сыграет та, что с косой.
А вот какой мы видим героиню, не молодую, но сохранившую себя, как сейчас говорят, почти идеал сочетания лет и образа: «Профессор помнил ее летней, с загорелыми ногами в коротких шортах, в тельняшке, открывающей смуглые плечи, с измазанными ежевикой губами. От нее пахло соснами и солнцем, морской ветер трепал бронзовые, кое-где отмеченные серебром волосы. Сейчас на ней ловко сидело черное пальтишко детского размера. Полосатый шарф она завязала с той же лихостью, словно старик в ресторане». Некоторое несоответствие возрасту придает даме обаяния, а не превращает ее в «накрашенную старуху», то есть действует наоборот даже и закон уместного. Тут бы и надо насторожиться, что желаемое начинает подменять реалии жизни. Финал приходится как раз на тот момент, когда, казалось бы, все невозможное стало возможным, — наверное, только в смерти человек может обрести единство всего, да и то исключительно в сознании, а не в воплощении.
Во втором рассказе, который я бы назвала отрезвляющим, никакого особого символизма и туманных предсказаний нет. Это проза, может, немного сентиментальная, но в рамках жанра. Персонажи его — рядовые граждане, с которыми случилась большая история и исковеркала их маленькую жизнь. Разумеется, трудные времена становятся для титанов гребнем взлета, выявляют львов и шакалов, питают художников и поэтов, но, помимо небольшой кучки избранных и призванных эпохой, как правило, человеку заурядному они ничего хорошего не несут. Восторженная юность делит людей на хороших и плохих, а умудренная зрелость на призванных и непризванных. Так вот и в рассказе речь о тех, кто вовсе не хотел быть участником эпохальных свершений. Ангел — коренная москвичка в третьем поколении, среди ее предков был министр, но сама она похожа на «генеральскую сирень», выращиваемую во дворе ее детства, — красивый и прихотливый цветок, посаженный на старости лет большим человеком для отдохновения души. Работа в адвокатской фирме закрывает ее финансовые амбиции, но 2022 год делает Ангела эмигранткой, спутницей жизни аспиранта-перебежчика и одним из многочисленных лиц без внятного будущего. Мечтающих осесть то в Израиле, то в Португалии, то в Канаде, попавших в этот поток не по своей воле и разбрасываемых среди других народов и стран с имущественными, статусными и личными потерями.
Все это, как говорится, контекст, а в сущности — в центре текста вопрос об утрате и хотя бы частичном обретении себя. Исторические события делают детей взрослыми раньше срока, а вот взрослых они подчас превращают в младенцев, которым постоянно страшно. Великое переселение на время стирает национальные, религиозные, территориальные и культурные границы, горе и потери одинаково ощущают и индус, и китаец, таким образом, человек с именем, историей, ментальностью и своей правдой становится просто единицей на голом пространстве, аналогичной другим таким же, как при рождении и перед лицом смерти. Подобная трансформация, когда все «одёжки» сваливаются, по Юрию Кузнецову: «С него сошли славянские глаголы, // С него сошли леса, луга и долы… // И, наконец, он больше не майор. // Он предан Богу, но в другой системе…» — это и инициация, и открытие себя, и путь в глубины, недоступные благополучному человеку. Но всем понятно, что лучше не проходить подобным путем.
За рубежом Ангел становится словно бы вполовину меньше — нет былого уважения и благосостояния, она завсегдатай секонд-хенда и рада початым духам, подаренным ей клиентами. Но что-то она и приобретает! Невидимое, но важное. Пережитые потрясения меняют ее систему ценностей, и части прошлого словно бы отпадают без боли: она принимает, что муж подался в Китай искать счастья, оставив ее на бобах, что очередной заказчик подозревает ее в воровстве, а умиротворение можно обрести в возможности подышать свежим морским воздухом — «в шесть часов вечера после войны». Из просто обывателя она превращается в кого-то бо́льшего, может, в очевидца или даже участника Времени.
В новом мире, где беженцы из Израиля перемешиваются с велосипедистами с Верхнего Ларса, совсем другие ориентиры: встретив на берегу залива безногого переселенца, гуляющего с собакой, Ангел осознает, что ей, в общем-то… повезло.
В качестве недостатка этого текста можно указать на некоторую сюжетную запутанность. Если первый рассказ организован достаточно линейно, то здесь мы никак не дойдем до сути. Любовная коллизия все упрощает, ее отсутствие — приводит к поиску смыслового зерна, в данном случае философского. Да, жизнь не сахар, богатые тоже плачут, в Москве тоже стреляют, как хорошо мы плохо жили, теперь и тому рад, да брать не велят. Все эти горькие истины мы постигаем уже к середине. Однако география путешествия супругов иногда представляется большим вопросом. Ангел бежит из Москвы в Тбилиси, вероятно, в страхе боевых действий, и встречает бывшего соискателя при МГУ — тоже москвича? Их мечты устремлены к Португалии, а оказываются они, видимо, в полыхающем Израиле, откуда «местные» бегут в Канаду… Здесь есть элемент «конспекта романа», и небольшой комментарий по поводу маршрута был бы полезен читателю.
В остальном же ясность достигается: весь мир в огне и мосты рушатся под ногами, вавилоняне не понимают друг друга на всех языках, однако хуже всего неспособность к душевному пониманию. Петечка, инвалид души, если можно так выразиться, похищает у жены ее скудный заработок, чтобы начать на него новую жизнь, видимо, в качестве преподавателя китайского. Безногий израильтянин, пострадавший физически, сохранил в себе человеческое, заботясь о своей собаке и будучи доброжелательным к случайной собеседнице в своем горе. Может быть, рассказ и об этом: что можно пройти через многое и «не стать уродом», а можно преувеличивать свои несчастья и страдания, бежать по всему миру, но все равно от себя не убежишь. Дело не в том, где ты и кто ты, а что у тебя в душе — сострадание, милосердие, доброта, понимание, или беспринципность, потребительский инстинкт, равнодушие. Можно прочесть рассказ и так, в моральном ключе. Почему нет?
К безусловным достоинствам текстов можно отнести их некоторую безэмоциональность, сдержанность вместо пафоса трагизма — это присутствие мудрости, равновесности; общий интеллектуальный бэкграунд автора с ненавязчивой моралью — почти призрачной; отсутствие поляризации, «просто история», сближающая не с публицистикой, а с художественностью; необычных героев — интересных, нестандартных, не боящихся быть «скучноватыми», вносящих непосредственность, элемент документализма.
Анна Аликевич: личная страница.
Нелли Шульман родилась в Петербурге, жила в Лондоне, США и Берлине. Пишет на русском и английском языках. Автор пяти романов из цикла «Вельяминовы» и детективных повестей о викторианском Лондоне. Лауреат нескольких писательских конкурсов. Член The Society of Authors (UK).




