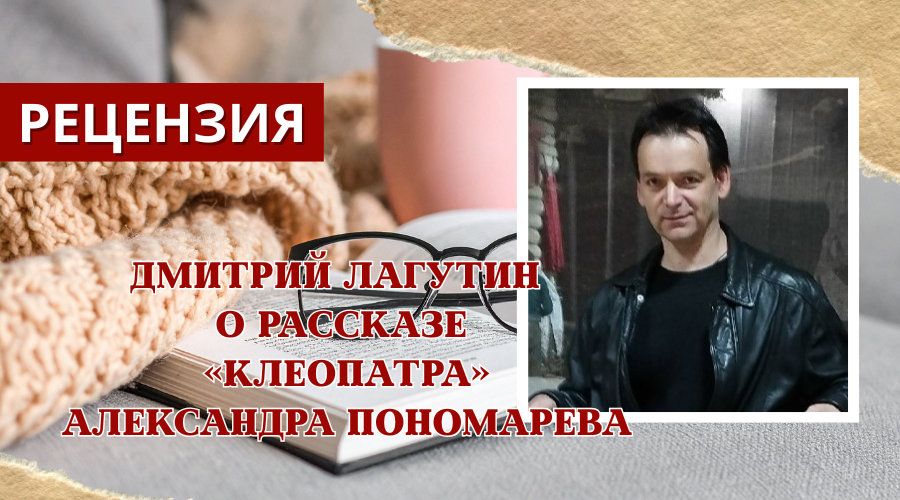
С текстами Александра Пономарева я знаком еще с его публикаций в «Нашем современнике». И потому на предоставленный рассказ могу смотреть не только как на самостоятельную единицу, но и как на часть целого.
Начну с целого.
Александр Пономарев — это Юрий Быков от литературы. Рассказ за рассказом он знакомит читателя с персонажами (зачастую, но не в случае «Клеопатры», не слишком приятными), а затем без лишних предисловий бросает их (персонажей) в огонь или воду с тем, чтобы в итоге поставить перед мучительным выбором.
Действенность и даже педагогичность такой схемы понятна: вместе с персонажами выбор — пусть и умозрительно, моделируя ситуацию в воображении — делает и читатель. Так и работает социальная проза — за то, чтобы читатель хоть на миг высунул нос из зоны комфорта и задался неудобными вопросами, расплачиваются персонажи. Персонаж принимает неверное решение и пожинает его плоды? Читатель качает головой уверенный, что поступил бы иначе. Персонаж принимает верное решение и выходит победителем? Читатель рад и за него, и за себя — потому что поступил бы также.
В этом контексте проза Александра социальна в самом высоком и благородном смысле этого слова — и если мы принимаем, что задача искусства (по одной из бесчисленных версий) состоит в том, чтобы «будоражить безмятежных и утешать смятенных», то Александр несомненно выбрал первую стезю. И успешно по ней движется.
Подтверждением чему становится рассказ «Клеопатра».
Коротко о сюжете. Антон, преподаватель Историко-архивного Института, заселяется в усредненный черноморский санаторий в разгар курортного сезона. Антону тридцать два, он недавно развелся и недавно же защитил диссертацию. Оба процесса не прошли гладко: развод сопровождался конфликтами и дележом имущества (Антон благородно уступил бывшей супруге квартиру), защита диссертации — стандартными для такого события интригами. Как итог, от отдыха Антон ждет именно что отдыха — ешь, спи, загорай и купайся — а не приключений.
Но не тут-то было.
Дорога в тысячу ли начинается с первого шага, театр начинается с вешалки, а санаторий начинается со столовой. В попытках избежать каких бы то ни было соблазнов, игнорируя и жадных до выпивки сверстников, и жадных до внимания сверстниц, Антон подсаживается в поиске свободного — не стоя же ему обедать — места к дуэту бабушка-внучка. Бабушке под шестьдесят, внучке — шестнадцать. Между ними и Антоном завязывается общение, и вот они уже не только три раза в день сидят за одним столом, но и в целом так или иначе пересекаются — то на пляже, то на прогулке. Что может пойти не так?
Да почти что все.
Естественно, Антон выбрал не тот столик, чтобы избежать тревог — и читатель становится свидетелем пробуждения первого горячего чувства со стороны шестнадцатилетней Алены.
Которую Антон, развив бабушкину шутку, зовет Клеопатрой — тем самым (психологи не дадут соврать) самолично, пусть и бессознательно втягивая собеседницу в опасную с точки зрения нравственности и уголовного законодательства игру.
Александр Пономарев выводит на страницах рассказа очень убедительный образ девочки-подростка: Клеопатра то отгораживается от всего мира, то готова заключить его в объятия, то язвит, то обижается, то ревнует, то изображает равнодушие, а в какой-то момент и вовсе предлагает Антону вместе сбежать в заморские (буквально, и это придает тексту почти сказочной символичности) страны и начать новую жизнь. Запускается цепная реакция, один за другим начинают совершаться поступки столь же импульсивные, сколь и разрушительные, ставки растут, и читателя ждет эмоциональная развязка, пересказывать которую я не стану, чтобы не сбить интерес к тексту.
Поговорю о концепциях.
Пономарев — автор суровый и жесткий. Не угрюмый, не мрачный, но жесткий — и вопросы он ставит максимально остро, не сглаживая углы. Если девушка шестнадцати лет влюбляется в его тексте в мужчину, то она не ограничится записками и посвящением стихов. Тем более если девушка — Клеопатра, которая по имени своему (пусть и данному как будто в шутку и на время отдыха) не терпит неповиновения и решительно претендует на исполнение своих желаний. И мужчина тридцати двух лет в тексте Пономарева — не картонный рыцарь с мечом из фольги, но сложный и полный противоречий человек (чего стоит только тот факт, что он и впрямь сам — пусть и не желая того — подогревал интерес к себе; а если не подогревал, то был слеп к этому интересу, который следовало бы обрубать сразу, не доводя до шекспировских страстей). Пономарев не играет в конфликт, не сталкивает лбами пластмассовых бычков, он показывает людей в их слабости и силе, беззащитности и агрессивности, людей, которые ничего не хотят и которым нужно все, людей, которые страшно одиноки и при этом никого из окружающих не замечают. Многие авторы тушуются на пути изображения конфликтов, на пути выявления острых углов человеческой природы — тушуются и отворачиваются, осыпают текст серебристой пыльцой, властной рукой разводят персонажей по углам. Пономарев — не такой. Он последователен, честен и прям — и если уж он берется за демонстрацию человеческой натуры, то будьте уверены, это будет именно что натура, в природном, почти первобытном значении.
Поэтому за персонажей переживаешь. Поэтому им веришь. Поэтому не знаешь, что случится по ту сторону страницы и читаешь, затаив дыхание.
Персонажей Пономарев выводить умеет. Причем в зависимости от задачи текста (и здесь я снова смотрю не на конкретный рассказ, а на библиографию Александра) герои его могут быть живыми и объемными, с характером и психологией, а могут уплощаться и становиться функциями — чего иногда требует смещение акцентов.
В «Клеопатре» все центральные персонажи живы до мурашек — и если Антон являет собой более-менее стандартный типаж главного героя, то бабушка с внучкой выглядят, воспринимаются и запоминаются совершенно реальными людьми. Что свидетельствует о несомненном таланте автора вообще и художественной состоятельности конкретного рассказа в частности.
А теперь я на время попрощаюсь с персонажами — как прощался бы с реальными людьми — и позволю себе порассуждать о самой ткани текста. Покритиковать — в прямом смысле слова.
(Заключаю в скобки абзац о том, что можно вынести за скобки: в тексте достаточно стилистических заусенцев и трещин — соскоблить и заделать которые не составит труда самому автору и останавливаться на которых в рецензии я бы не хотел. Чисто формально в тексте есть, над чем поработать, но работа эта — механическая, говорить о ней смысла нет).
Итак. Ткань. Ландшафт. Матрица.
Действие рассказа происходит на море — и это очень важно в контексте его воздействия на читателя. Существует поразительная и прекрасная закономерность: как запоминаются и по-особому отпечатываются в памяти поездки на море (для большинства жителей средней полосы с детства овеянные таинственным и почти волшебным ореолом), так по-особому читаются, переживаются и запоминаются тексты о море. Чтение — всегда путешествие, и чтение о море в каком-то смысле — путешествие к морю. Тут в бессознательном сокрыто какое-то ассоциативное ядро, и стена между восприятием произведения и личным опытом превращается в тонкую мерцающую пленку, на которую только надави — и прорвется.
За счет подобного приема «Клеопатра» задерживается в мыслях надолго, о чтении вспоминаешь как о, повторюсь, путешествии. Поменяйте сеттинг на привычно-городской или чуть менее, но все-таки привычно-деревенский (уставший от столичной суеты преподаватель приезжает в деревню и влюбляется в местную жительницу), и рассказ сработает, выстрелит — но эхо от выстрела, побившись о своды памяти, затихнет скорее. Александр Пономарев, разумеется, не первым переносит историю на морское побережье и вряд ли автор при выборе декораций руководствовался каким-то холодным «архитекторским» расчетом, но из песни слов не выкинешь: «Клеопатра» — «морской» рассказ, и действует на читателя (преимущественно сухопутного) по-особенному.
Например, именно особая «морская» — и даже не просто морская, а «курортно-морская» — формула нивелирует некоторую затянутость. Если посмотреть на историю Антона и Алены отстраненно, «с мороза», то чисто композиционная асимметричность, вязкость не может не броситься в глаза. Рассказ долго раскачивается (хотя почти сразу понятно, к чему все идет), некоторые сцены кажутся излишне детальными, почти громоздкими, темп изо всех держится размеренный — даже там, где мог бы и нарастать — но в дело вступает курортно-морская алхимия, и длинноты, паузы и затянутость оказываются вполне подходящими солнечно-санаторной системе координат. Текст как тот самый отдыхающий — как тот самый Антон — хотел бы просто лежать, закрывшись от солнца тряпичным зонтом, млеть и видеть теплые сны, а его куда-то толкают, тянут и раскачивают.
Не случайно в роковую ночь, на которую приходится кульминация ставшего драматическим сюжета, благодушно-медовый зной — кому не знакома прелесть погожих приморских ночей? — уступает место грохочущему тропическому ливню.
И кстати, на курортно-морскую формулу работает и название рассказа. Читателя еще до знакомства с персонажами, еще до того, как будет воспринято первое предложение, обдает — пусть и мимолетно — жаром раскаленного песка, шелестом пальмовых листьев. Читатель приступает к рассказу уже пусть на самую малость, но подготовленным — и здесь речь идет не только об удачном названии, но и о какой-то гармонии текста вообще. Складываются детали мозаики, что-то щелкает — и текст срабатывает.
Можно дискутировать о том, нужен ли рассказу эпилог. (Достаточно прочесть вслух: «Нужен ли Клеопатре эпилог?» — чтобы понять, что эпилог — дело не слишком царское; и не случайно в эпилоге обращение «Клеопатра» уже выглядит чем-то неловким, неуместным; с другой же стороны, возможно, именно такое «заземление» необходимо для более объемного восприятия). О том, насколько убедителен тайминг остросюжетной части рассказа — герой в лучших традициях боевика успевает прийти на помощь в самый последний момент. (Убедителен, убедителен — прикипев к персонажам, мы боимся за них больше, чем за тотальную правдоподобность происходящего; а герой на то и герой, чтобы спасать прекрасную даму, даже если ей — тем более, если ей — всего шестнадцать). Дискутировать можно — но дискуссии эти будут носить характер праздно-литературоведческий, ибо текст: а) сложился и б) работает.
И, конечно, нельзя не сказать, что «Клеопатра» — текст не только художественно состоявшийся, но и нужный. Как и многие другие тексты автора. Александр Пономарев ставит читателя перед острыми вопросами — и делает это без назидательности, без нравоучений и высокомерного прищура. Я бы сказал, что проза Александра Пономарева — это здоровая социальная проза, призванная вернуть внимание аудитории к вечным проблемам. Будоражащая безмятежных. Юрий Быков в мире журнальной (пока!) литературы.
Если бы эта рецензия была напечатана на папирусе, ее завершение можно было бы склеить с началом.
С текстами Александра Пономарева я знаком еще с его публикаций в «Нашем современнике».
Дмитрий Лагутин: личная страница.
Пономарев Александр Сергеевич. Родился в 1970 году в Москве. Окончил Институт инженеров водного транспорта. Работал в сфере организации перевозок, в страховании. Публиковался в журналах: «Наш Современник», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Нева», «Кольцо А», «Российский колокол», «Смена», в Литературной газете и в других изданиях. Автор сборника рассказов «Семейное дело» (2024). Лауреат Литературного конкурса им. Короленко, финалист Литературной премии «Данко». Живет в Москве.




