.jpg)
Борис Кутенков о Кирилле Ковальджи, опыте культуртрегерства и об идеальном семинаре
Героя нашей сегодняшней беседы, Кирилла Владимировича Ковальджи (1930–2017) называют «органичным выразителем психологической нормы, добра и света в поэзии». Он и был таков в жизни – воплощение мудрости и здравости, но и пример бесконечного трудолюбия. Поэт, прозаик, литературный критик и переводчик, главный редактор журнала «Кольцо А», а до этого – журнала «Пролог», руководитель многих и многих семинаров, автор статей и предисловий к классикам и современникам, – перечень сделанного им на литературном поприще неисчислим, но особое место в этой деятельности занимает помощь молодым, которую Кирилл Владимирович не прекращал до конца своих дней.
В беседе с Любавой Малышевой один из учеников Ковальджи, Борис Кутенков вспоминает о нём как о культуртрегере и педагоге, а также о памятном обоим (Любаве и Борису) семинаре 2009 года, которому посвящён специальный новый мартовский выпуск альманаха «Литературные знакомства».
Л.М.: Про многих людей можно сказать: это – балерина, это – художник, и так далее. А Кирилла Владимировича Ковальджи нельзя так односложно определить, и это очень удивляет. Но при всей многогранности он был очень невысокомерным человеком...
Б.К.: Вы знаете, я бы, наверное, определил его личность одним словом. «Литератор». Оно какое-то общее и в то же время понятное, оно включает в себя много разных занятий, и в нём чувствуется высокий смысл. Ходасевич называл себя этим словом. Ещё я бы сказал – «культуртрегер». Я никогда не произносил это слово в присутствии Кирилла Владимировича и не знаю, согласился бы он с ним, но подозреваю, что да. Потому что это слово такое, не новомодное – оно бытовало в своём современном значении ещё в начале XX века. И мне в нём чувствуется тоже высокий смысл. Культуртрегер – как человек, который занимается не только своим творчеством, который устраивает разные образовательные акции и много помогает другим. У Вас была ещё какая-то часть вопроса, да? Подзабыл по пути...
Л.М.: Да. Многие люди такого сорта очень высокомерны...
Б.К.: А, да. Вообще, Кирилл Владимирович был не очень похож на остальных окружающих нас людей. В нём абсолютно не было высокомерия – с которым я в полной мере столкнулся, когда в студенческие годы стал соприкасаться с так называемым «московским литературным сообществом», – и всегда ощущалось чувство собственного достоинства. Оно было каким-то европейским, это чувство. Я думаю, оно связано отчасти с его происхождением, соединением в нём нескольких культур. Было видно, что имеешь дело с манерами европейца – при всей его домашности и простоте: с одной стороны, ты чувствуешь лёгкость общения, с другой – как-то незаметно повышаешь для себя планку, становишься немножечко навытяжку. Потому что самим фактом вот этого общения, полного чувства собственного достоинства, человек как бы определял внешние границы. И внутренние – для собеседника. И хотелось соответствовать этим границам. Он никогда не подчёркивал разницу в возрасте, например, это отличало его от многих других старших, с кем я тогда общался. Важность жизненного опыта мог подчеркнуть и охотно делился им, но снобизм был исключён. И в то же время это отсутствие снобизма, простота никогда не располагали к вульгарности. Если Кирилл Владимирович чувствовал ущемление своих прав или вульгарность – он отвечал очень достойно. Чувствовалось, что он прост до той границы, пока не ущемляют его простоту. Как Вам кажется?
Л.М.: Само его поведение сообщало важные этические категории. И, мне кажется, он выбирал для общения именно таких людей, соответствующих своей внутренней планке.
Б.К.: Вот это сложный вопрос – потому что в семинарах у него ведь учились разные люди, невозможно сказать, что он кого-то выбирал. Нет, мне не кажется, что специально выбирал. Мне кажется, происходило по-другому: очень разные люди шли к нему, а потом, как это неизбежно бывает, отсеивались те, кто не был ему близок. С кем-то не складывалось общение. И те, кто был ему мировоззренчески близок, – они, наверное, и оставались. Я не могу сказать, что был безусловно близок. В последние годы его жизни мы скорее друг друга не понимали. Причём не было ссоры, не было конфликта. Было стилистическое расхождение. Ковальджи всё-таки остался здравым консерватором: он любил простые стихи, а меня тянуло в сторону сложности. Мне всё ближе становилась постмандельштамовская поэтика. Может быть, кстати, из учеников Ковальджи стоит вспомнить Ивана Жданова, поэтика которого с годами стала для меня приобретать основополагающее значение. Интересно, кстати, что Ковальджи думал об Иване Жданове? Мы никогда об этом не говорили. Но мне кажется, что поэтика Жданова была близка ему вчуже. Я очень полюбил в последнее время это словечко «вчуже»...
То есть, вы знаете, некоторые учителя гордятся достижениями своих учеников, но не принимают их поэтику. И когда ученики становятся известными, уже невозможно заявлять впрямую о неприятии этой поэтики: ты гордишься самим фактом репутации – что вот такой человек у тебя учился, несмотря на то, что он пошёл другим путём. Мудрость педагога состоит в том, чтобы принять ученика таким, каким он стал, а не таким, каким он хотел (бы) его видеть. Мне кажется, у Кирилла Владимировича была эта мудрость.
А что касается расхождений – то в 2012 году, когда я обсуждался у него на семинаре в Липках, он говорил, например, о дурном влиянии стихов Алексея Цветкова. Кирилл Владимирович – в ту пору, когда я его знал, – был всё-таки человек очень пожилой, неизбежно возникали какие-то повторяющиеся сюжеты. Например, он часто говорил о «дурном» позднем Юрии Кузнецове. И о влиянии Цветкова, который – годов с 1980-х, как мне кажется, – писал и пишет стихи такого механического свойства. И это замечание про механистичность справедливо по отношению к Алексею Петровичу Цветкову. Но, вы знаете, мне кажется, Ковальджи всё-таки не учитывал, что «механистическое» влияние поэта может быть плодотворным, когда оно накладывается, скажем так, на твою витальность. На то живое, что есть в тебе. И поздний Цветков – он всё-таки раскрепощает какие-то внутренние механизмы, именно потому, что его «машинка», конвейер как бы открывают лёгкость многописания. Это в каком-то смысле избавляет от внутреннего цензора, что для меня в какой-то момент стало важным. И может получиться очень классный сплав, очень здоровский синтез, – на стыке чужой «раскрепощённой искусственности» и твоей свободы. Но для Ковальджи влияние Цветкова было однозначно дурным. Хотя в те годы это был поэт, которого я очень насыщенно читал. Мы на этой почве спорили. Или, например, стихи Евтушенко, из-за которых мы тоже много спорили...
Л.М.: Не думаю, что Цветков механический, читаю все его тексты. А кто из вас не любил Евтушенко?
Б.К.: Я. Соответственно, Кирилл Владимирович очень любил. Поэтика шестидесятничества была близка самому Ковальджи – хотя он от неё уходил – в своих верлибрах, например. Но где-то он всё равно оставался там: шестидесятнические стихи, то время – это были его стихи и его время. Недаром одним из его основных сюжетов был сюжет утраченного литературоцентризма. Можно, конечно, эти мысли развивать.
Л.М.: Вы затронули тему «европейскости». Много кто соединяет несколько культур, несколько идентичностей – но почему так интересно получилось у него? Чуть ли не до самого ухода он собирал вокруг себя людей, радовался чужим успехам как своим.
Б.К.: Можно, наверное, вычленить несколько составляющих его личности. Это, во-первых, инокультурие; во-вторых, чувство собственного достоинства, которое напрямую не вытекает из первого, но отчасти связано с ним; в-третьих, счастливый дар – радоваться чужим успехам, не быть сосредоточенным на своём творчестве, что и делало его культуртрегером. И в то же время он не отодвигал себя в сторону, ему удалось найти какой-то интересный баланс между вниманием к другим и вниманием к себе. Нельзя назвать его малоизвестным; нельзя сказать, что он не печатался – его стихи выходили в толстых журналах – «Новом мире», «Арионе», регулярно издавались книги... Но нельзя сказать и что его безусловно ценили как поэта. Он, наверное, и не был поэтом первого ряда – хотя в его случае хочется уклониться от таких оценок: жизнь и литпроцесс любят искусственно расставлять на «первый – второй», что далеко не всегда соответствует внутренним иерархиям (если, конечно, самостоятельно мыслишь). И в то же время он занимал своё очень достойное, законное место в литературной иерархии. Но в глазах большинства это всё-таки был в первую очередь педагог, а потом уже поэт. Ничего не поделаешь: такая участь постигает всех, кто не зациклен на себе. В принципе, не самая худшая участь, если тебя ценят в другой ипостаси. Это не вело в его случае к ложной скромности, к каким-то отказам от публикаций. Нет, он приглашал на свои вечера, я видел, как ему было приятно участвовать в них, и всё происходило довольно легко. Была в нём какая-то пушкинская лёгкость. Лёгкость – вот то слово, которое мы ещё не произнесли.
Л.М.: Наталья Горбаневская говорила: «У меня очень маленькое место, но оно моё».
Б.К.: Я в последнее время слышал дважды похожую фразу – от писательницы Екатерины Вильмонт, которая сказала: «У меня своё место – мне в нём, бывает, отказывают, но оно у меня есть». И, кстати, удивительно, что примерно то же самое говорил совершенно противоположный по взглядам – и Вильмонт, и самому Ковальджи, – поэт и культуртрегер, прижизненный оппонент Ковальджи, Дмитрий Кузьмин. Он тоже говорил о небольшом масштабе своего творчества и о том, что ему больше важно культуртрегерство. Но тут всё-таки есть разница. Кузьмину важна литературная власть, он этого и не скрывает. Ковальджи никогда бы не сказал, что ему важна литературная власть. Но всё-таки внимание к другим, к литературе, – оно превалирует/превалировало у того и у другого при серьёзной разнице ценностных установок. И при личностной противоположности. Которая – вот интересно оказывается не такой уж противоположной.
Л.М.: Может быть, одним нравится изображать процесс, а другим – сам процесс? Один доказывает своё влияние на литпроцесс, а другой его, это влияние, имеет.
Б.К.: Мне кажется, что можно и доказывать, и иметь, одно другому не противоречит. Любить и литературу, и свой символический капитал в ней. Я думаю, что Кирилл Владимирович, безусловно, гордился своими успехами: помню, как он мог похвастаться своей публикацией, это было так по-детски, опять же – легко, вызывало улыбку. Помню один из его вечеров – кажется, в Доме-музее Цветаевой. Его там чествовали, он сидел в кресле, на сцене. Выходили люди, я слышал много фальши в словах этих людей. Понятно, что многие хотели прибиться, быть ближе к его кругу. Многим хотелось выпендриться. Разумеется, были люди, которые говорили искренне. Он сидел такой довольный, немного вразвалочку, и словно грелся в лучах этой славы. Я чувствовал, что он в этот момент дополучал то, чего, наверное, недополучил за свою жизнь; заметно было в его глазах удовольствие. И без этого тщеславия, конечно, поэт невозможен. Главное – чтобы оно было в разумных пределах. Тогда это, наверное, и не тщеславие, – а просто ощущение своего места и того, что ты справедливо получаешь то, что получаешь. У Кузьмина чувствуется громадный комплекс, который им движет, который ведёт к необходимости литературной власти, – это проявляется во всём. У Ковальджи не чувствовалось такой закомплексованности. Либо он её тщательно скрывал.
Хотя, вы знаете, я чувствовал и обиду с его стороны, и творческую ревность. Помню один момент на тех же Липках: подряд поставили вечера его и Евгения Борисовича Рейна. Если не ошибаюсь, вечер Рейна поставили прямо перед Ковальджи. И Ковальджи с какой-то обидой и болью говорил об этом – я уже не помню, в каких формулировках, но суть заключалась именно в том, что их вечера поставили рядом. Ковальджи было обидно, что Рейн его задвинет, что все придут на Рейна. И действительно – было понятно, что придут в основном на Рейна просто потому, что он завоевал глобальную репутацию. Так и случилось. Мне было жаль Кирилла Владимировича, хотелось его успокоить.
И ещё 2009 год. Год, когда мы с Вами познакомились и когда я впервые пришёл к нему на семинары и его увидел. Тогда он впервые дал мне право поехать на Форум молодых писателей в Липки: у него была квота, согласно которой он имел возможность рекомендовать какое-то количество молодых авторов. Они могли проходить без отбора. Поскольку я к тому моменту уже достаточно побывал на семинарах Ковальджи в ЦДЛ, я записался на семинар Ермаковой и Скворцова. Это были мои первые Липки. Я чувствовал, что Ковальджи было обидно, и он мягко высказал мне эту обиду: вот, мол, я дал многим возможность поехать – но люди записались в другие семинары. Мне было стыдно. Но было бы странно в то же время записываться к нему в семинар, а не воспользоваться возможностью послушать других руководителей. Может быть, надо было предупредить – выйти мне из этой ситуации с какой-то большей этичностью. Ценно было, что он не стал кричать или говорить, что в следующий раз не даст нам эту возможность; нет, он дал её и в следующий раз.
Л.М.: Какие у него были любимые поэты?
Б.К.: Любимые поэты? Из семинаристов «моего» периода? Я, например, не думаю, что я был любимым поэтом. Думаю, что ему мои стихи были внутренне не близки. Но он видел большее – талант. Люди, которые его окружали, были эстетически разными. Нельзя сказать, что его ученики старшего поколения – Искренко, Парщиков, Бунимович, тот же Жданов – люди одного фланга. Они все эстетически очень разнообразны. С одной стороны, он приветствовал меня, с другой – Нину Краснову, но между нами ничего общего. Но он и приглашал, и выдвигал, и писал о нас. И с третьей стороны – например, Мария Малиновская, о которой он, помнится, написал в «Литературную газету». У него было свойство: он верил в талант, и эта вера оправдывалась. Всё-таки о педагоге и о культуртрегере многое говорит, когда он ставит на совсем начинающего человека, а потом этот человек идёт по жизни и получает разные регалии. Тогда мы уверяемся не только в самом человеке, который состоялся, – мы уверяемся в его педагоге. Так произошло, например, с Марией Малиновской, хотя она сильно изменила и поэтику, и круг литературных привязанностей.
Л.М.: Для педагога всё-таки важно увидеть талант.
Б.К.: Талант – да, но не менее важно увидеть потенциал. В 2011 году он написал рецензию на мой второй сборник в газете «Книжное обозрение» и закончил её такими словами: «Борис Кутенков – уже здесь, в нашей литературе. И принесёт ей немалую пользу». Я постоянно вспоминаю эти его слова, и они как-то подбадривают. Не столь важно, состоялся ты или нет, – важно, что эти слова поддержки двигают тебя вперёд: это такой стимул, желание соответствовать авансу. В любом случае, это такая серьёзная заявка была, потому что непонятно было тогда: принесёт или не принесёт.
Л.М.: Вы знаете, есть такие пожилые поэты, которые на всякий случай хвалят. Какие бы ни принесли им стихи, они одобрят. Чтобы кого-то не растоптать.
Б.К.: Как поздний Бродский. Или Рейн.
Л.М.: Или Найман.
Б.К.: Найман – нет. Когда я принёс ему свою подборку (в том же 2011-м), он спросил первым делом: «Вам написать так, чтобы было приятно, или правду?». То есть в человеке уже была настроенность на то, чтобы сказать неприятное. И написал соответствующим образом – но дело не в том, что это было неприятно, а в том, что косно и глупо, вне зависимости от положительной или отрицательной оценки текстов.
Л.М.: А мне в этом вопросе всё-таки видится деликатность. Стремление не задеть.
Б.К.: В любом случае, такое всепринятие, о котором Вы сказали, – оно происходит не просто от благодушия, а от равнодушия. Оно, по замечаниям многих и многих, было свойственно позднему Бродскому. Он писал пачками хвалебные отзывы, и при этом многие признавались, что он любил свою поэзию, а не других. Эгоцентризм был свойствен Пастернаку: Ахматова обижалась, думая, что он всю жизнь не читал её стихов, – при этом и она сама отделывалась от приходивших к ней молодых поэтов общими словами, что даже вошло в анекдоты.
Л.М.: Кто Вам нравится из его учеников?
Б.К.: Мне очень по-разному нравятся и Нина Искренко, и Евгений Бунимович, и Иван Жданов. Жданов, как я уже сказал, ближе всех моей сегодняшней поэтике. Нину Искренко перечитал прошлой весной после биографической книги Нади Делаланд о ней, вышедшей в рамках Вашего проекта, – она тоже способствует каким-то важным механизмам раскрепощения собственного творчества, но в целом это скорее не моё. Евгений Бунимович – хотя он не вполне состоялся как поэт, у него есть интересные стихи. Я думаю, что он, как и Ковальджи, – культуртрегер в широком смысле, безумно интересный человек, но, по-моему, он перестал заниматься собственными стихами.
Л.М.: У Бунимовича есть такие тексты, которые имеют шансы перевесить не только всё остальное им написанное, но выделиться в ряду его поколения.
Б.К.: У Бунимовича есть отличные тексты, но тут важно ещё то, как сам человек себя ощущает.
Л.М.: Вы думаете, что после того, как Вы написали текст, Вы как-то можете повлиять на его судьбу?
Б.К.: Конечно. Я могу его активно продвигать, а могу положить в стол.
Л.М.: Мы не знаем, что с этими стихами будет дальше. Стихи Нины Искренко лежат сейчас неизданными, двенадцать томов, и их только планируют издавать. Или пример, как в советское время было много писателей, которые издавались миллионными тиражами. Никого из них не осталось. А остались те, кто публиковался в самиздате крошечными тиражами или издавался на Западе. Если твоё высказывание не имеет художественного смысла, оно не останется в вечности.
Б.К.: Всё верно говорите, хотя мы с Вами немного о разном. В сборнике Ковальджи «Моя мозаика», вышедшем ещё при его жизни, меня кольнула формулировка «заслуженно забытые поэты» – как раз о забытых стихотворцах советских лет; я уже не помню, кого он им противопоставлял, – если не ошибаюсь, Евгения Винокурова.
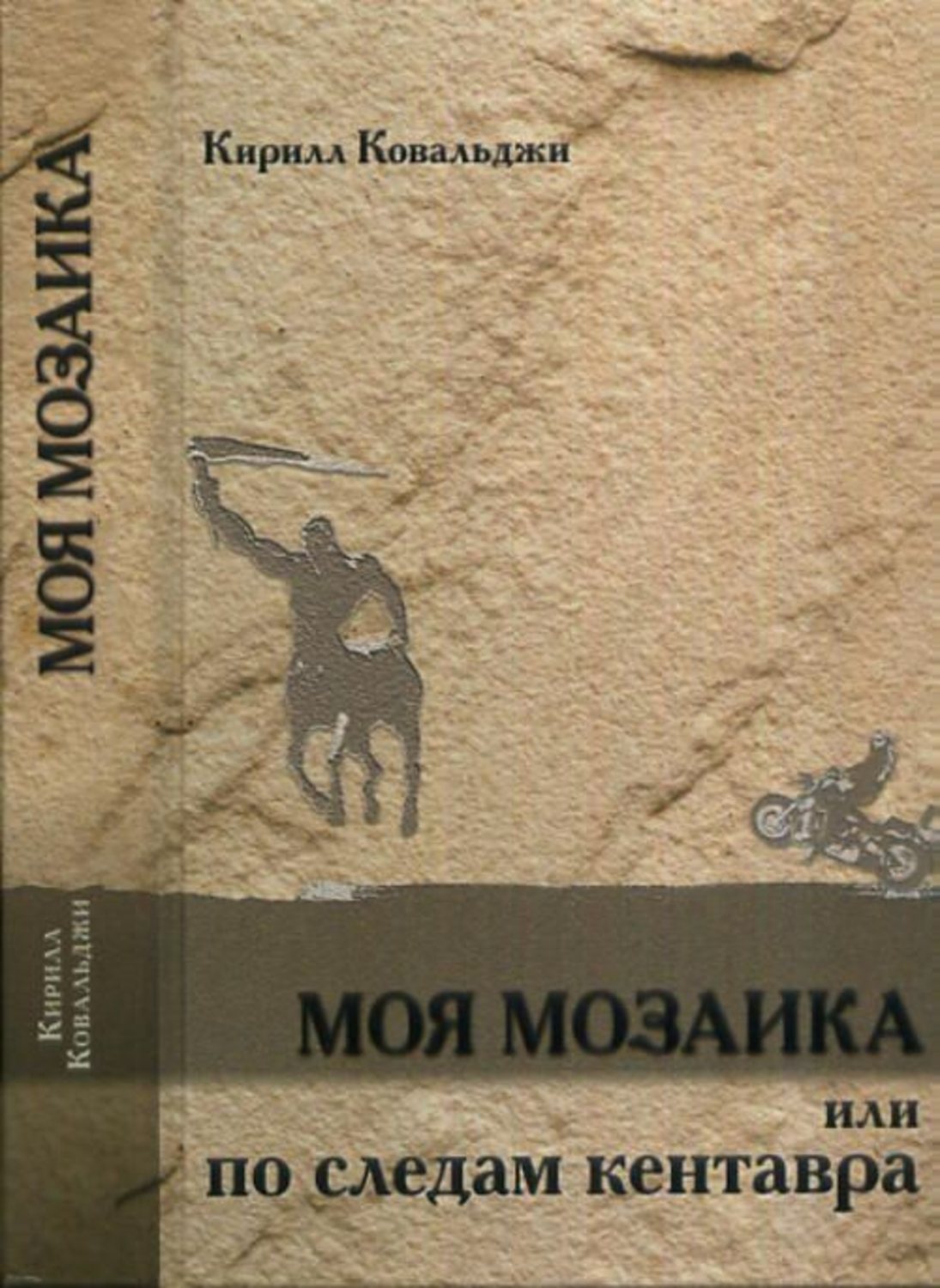
Обложка книги «Моя мозаика»
Л.М.: Не знаю, какое у Вас ощущение, но мне кажется, что недавно начала расти значимость когорты поэтов, недавно покинувших нас. У людей открываются глаза – например, на ту же Нину Искренко. Или Парщикова.
Б.К.: У Вас есть ощущение, что больше внимания стало к стихам Ковальджи в последние годы?
Л.М.: К личности. Люди оглянулись и поняли, что его нет.
Б.К.: У меня пока нет такого ощущения. Возможно, прошло слишком мало времени со дня его смерти.
Л.М.: Знаете ли Вы примеры, когда Ковальджи жёстко критиковал поэтов?
Б.К.: Жёстко – нет. Жёсткость ему не была свойственна, была свойственна твёрдость. Но, Вы знаете, я приведу такой пример. Мы с Вами встретились на семинаре в декабре 2009 года, а до этого, в марте, был первый семинар, на который я к нему пришёл. Я очень придирчиво разбирал тексты. Это была такая литинститутская школа. Дело в том, что в семинаре, на котором я тогда учился, было принято обсуждать рифму как внеконтекстуально обусловленный элемент стихотворения. То есть выхватывать какие-то вещи из контекста и оценивать рифму как плохую или хорошую. Я с удивлением узнал, что для Ковальджи это неприемлемо, – и вообще, здравое понимание рифмы я получил именно от него. И когда я вот так стал выхватывать рифмы из контекста, он обратил свою критику на меня. Он сказал: «Не бывает красивой женщины, у которой были бы некрасивые уши». С тех пор эта фраза всегда со мной – как и структурное, обусловленное понимание всех элементов стихотворения; это потом я уже прочитал Лотмана, Гаспарова и иже с ними.
Л.М.: Удивительно, что в Литинституте могли так относиться к стихам.
Б.К.: Вы знаете, в применении к слабым текстам это может быть небесполезно: видно, что автор скверно рифмует, и нужно указать ему на это. Важно почувствовать уровень различения. Ковальджи почувствовал, что у меня этого различения нет, потому что я мог в равной степени придираться к рифмам и применительно к слабому тексту, и применительно к сильному. Он привёл в пример Блока, Георгия Иванова, «пьяные» неточные рифмы Есенина, – и надо сказать, что всё это переворачивало сознание. И всё это трудно уживалось с тем, что мне говорили о рифме два или три года до того на литинститутском семинаре. Но нет, жёсткость не была ему свойственна. Была свойственна примирительность. Это тоже такое общее место для мудрого педагога – когда весь семинар гнобит, ты обязан защитить, найти хорошее, даже если в целом тебе не нравится то, что обсуждают. Такое умение присутствует и у Игоря Олеговича Шайтанова – оно проявилось, когда меня жёстко раздалбывали на семинаре «Вопросов литературы», и у Игоря Леонидовича Волгина. Эти педагогические принципы не акцентуированы, нигде не записаны, но мной они понимались и учитывались каким-то седьмым чувством, – и проявлялись, когда я уже сам вёл семинары в дальнейшем. Кажется, у Евтушенко есть строки, что когда сотня кого-то бьёт за дело, сто первым он не будет никогда. Ковальджи не был человеком, который стал бы бить кого-то в случае, если бы увидел, что того уже бьют.
Не знаю о его политических взглядах – хотя та же «Моя мозаика» показала мне его как очень разностороннего человека. Оказывается, он интересовался космосом, наукой, ещё многим другим. Он был литературоцентричен, но не зациклен на литературе. Литература не заменяла ему жизнь – он любил жизнь.
Л.М.: Как Лола Звонарёва вела семинары?
Б.К.: Я не знаю, как бы я сейчас на это посмотрел, – всё-таки прошло уже больше десяти лет, – но тогда это был для меня такой идеальный семинар. Они прекрасно существовали в тандеме, дополняли друг друга. Бывает, знаете, что двое мастеров сидят рядом – и видно, что это искусственный тандем. Такие семинары мы тоже видели. Ковальджи с Еленой Исаевой и Ковальджи с Лолой Звонарёвой прекрасно друг друга дополняли. В то же время нельзя сказать, что у одного было что-то, чего не было у другой. У обоих присутствовала мягкость, стремление поддерживать. Была какая-то общая уютная атмосфера, создаваемая доброжелательностью обоих мастеров. Звонарёва – очень мягкий, уютный человек; про Ковальджи нельзя сказать, что он уютный, – он мягкий, но всё-таки с офицерской выправкой.
Л.М.: Как проходил тот декабрьский семинар 2009-го года?
Б.К.: Какие-то воспоминания уже уходят. Происходило долго – два или три дня. Во всяком случае, я помню, что пришёл в пятницу утром, просидел всю пятницу – до пяти или шести часов, – и не хотелось уходить, а потом то же самое было в субботу. Обсуждения были короткими, но нельзя сказать, что они были скомканными. Там обсуждалось в один день человек по десять; я не знаю, как другие это воспринимали, но я слушал всё с жадностью и интересом, активно участвовал. Наверное, мастера относились к этому по-другому – потому что они вкладывали больше энергии и они всё-таки старше по возрасту.
Л.М.: Совещание проходило в разных комнатах, шли разные группы – и приходилось выбирать, ты – прозаик или ты – поэт...
Б.К.: Ну, это на всех семинарах так. Впоследствии я участвовал и в критических семинарах на том же Совещании молодых писателей – у Андрея Немзера и был вольнослушателем на семинарах Ковальджи. С какого-то момента меня перестали туда брать как участника – сказали, мол, всё, ты своё отпосещал, молодняк должен учиться. Хотя к тому моменту «отказа» мне было всего лишь года двадцать три; я рано начал. Ковальджи как-то обронил фразу: «Молодые быстро становятся мэтрами». Разумеется, не могу отнести это к себе, но сама фраза предельно точна.
Л.М.: Кого Вы помните из участников того семинара?
Б.К.: Андрея Егорова, Геннадия Чернецкого. Я помню, что этот тандем меня очень невзлюбил. Звучала презрительность в их высказываниях. Возможно, с ними был кто-то третий, но помнится, что они были в очень плотной связке: обменивались короткими довольно жёсткими репликами.
Л.М.: Смотрите: Вам удалось объединить людей, создать коалицию против Вас.
Б.К.: (Смеётся). Может быть, это не против меня, а против текста, не будем переходить на личности. Но я уже знал, что Ковальджи и Звонарёва хорошо ко мне относятся, отмечают мой талант. Не скрою: мне было обидно отношение некоторых коллег. В двадцать лет это очень болезненно воспринимается.
Л.М.: Но это же чужие люди! И все решения были Вами приняты к тому моменту, дорога выбрана.
Б.К.: Нет-нет, далеко не все решения были приняты. Это была своеобразная развилка. Был момент довольно сложного душевного кризиса, выбора между простотой и биографической проявленностью в стихах – и метареалистической поэтикой. На мартовском семинаре 2009 года Лола Уткировна Звонарёва произнесла ключевую фразу, которая многое определила в развитии моей поэтики: «Вы – поэт, который может писать и очень просто, и очень сложно».
При этом мне очень нравились и нравятся стихи Геннадия Чернецкого. У меня нет такого свойства: если кто-то меня ругает, то я ругаю в ответ или демонстративно не замечаю. Эти стихи впоследствии были опубликованы и в «Арионе», и понравились мне и на его страницах; спустя несколько лет Александр Переверзин попросил меня опубликовать Чернецкого на «Сетевой Словесности», я с удовольствием составил подборку и сделал это. Я надеюсь, что это немного поддержало Геннадия, – насколько я знаю, у него сложная ситуация со здоровьем. Было бы интересно узнать, как он сейчас себя чувствует.
Ещё была Лета Югай, с которой мы сразу сдружились, – невероятно светлый человек. В последние годы мы как-то потеряли связь: иногда вижу её университетские исследования, часто очень интересные, а стихов почему-то давно не вижу. Возможно, что-то пропускаю. Я думаю, что если говорить о тех учениках Ковальджи, которые успешно продолжили деятельность, то это Лета Югай. В случае с анализом её подборки я испытывал затруднение – невозможно было относиться к ней поверхностно, как я относился зачастую к другим, менее сильным стихам; чувствовалось, что нужен глубокий разбор поэтики, на который я не был способен, – и Ковальджи произнёс (не без иронии) фразу, которую я запомнил: «Действительно, что можно сказать о хороших стихах кроме того, что это хорошие стихи?». С этой фразой я иногда внутренне спорю – хотя понимаю, что он имел в виду. О хороших стихах много чего можно сказать – но, наверное, не в рамках семинара, где иногда важна поверхностная оценка, ободрение со стороны мастера и коллег, простое «Ты можешь».
Л.М.: Лета недавно участвовала в нашем фестивале «Искренковские чтения-2021». Думаю, что на семинар Ковальджи Лета пришла не учиться, она пришла как готовый поэт.
Б.К.: А что касается негативного обсуждения – очень важно переварить критику и пойти дальше без обиды на этих людей. Хочется верить, что со мной это произошло, и что я сам отчасти давал поводы для негативного обсуждения. Непонимание умного человека отличается от непонимания дурака: первое бывает важно и интересно и влияет на творческое развитие. Может быть, на том семинаре не было ни глупых, ни сверхважных высказываний, но в моей жизни они были. Умная отрицательная критика, безусловно, развивает.
Л.М.: Разве, если критик недогадливый, это – не его проблема?
Б.К.: Я не согласен с определением «недогадливый»: бывает, что он просто другой. Придерживается других ценностных установок, любит другие стихи. И честно и подробно объясняет, почему ему это не нравится. Я не против отрицательной критики. Особенно когда автор на неё настроен – а если я прихожу на семинар, я должен быть морально на неё настроен. Понятно, что будут звучать отзывы разной компетентности. Уже шесть лет я веду свой «Полёт разборов», литературно-критический проект, и столкнулся с несколькими образцами инфантильного поведения – когда автор сам предлагает своё участие в обсуждении, потом уходит обиженный, потому что пошло что-то не так. Кстати говоря, в ведении этого проекта мне очень помогает педагогическая практика Ковальджи. Разумеется, я совсем не он – нет ни такого опыта, ни такой мудрости, – но какие-то частные вещи в опыте ведения семинара вспоминаются, и что-то даже копируешь.
Л.М.: Давайте сейчас это скажем. Как вести семинар?
Б.К.: Как ведущий я не всегда могу повернуть ход обсуждения в положительную сторону. Если все критики настроены против автора – а бывало и такое, хоть и редко, – человек поневоле уходит если не обиженным, то расстроенным. Тут приходится проводить психологическую работу ещё до обсуждения и спрашивать, готов ли человек к отрицательной критике. Предупреждаю обо всех нюансах, о непредсказуемости обсуждения, о том, что какой-то неумный человек может высказаться из зала. После того, как я проведу эту подготовительную работу (если, конечно, заранее не уверен в реакции человека, которого приглашаю), автор участвует в семинаре. Потому что не хочется, чтобы человек психанул и убежал в середине обсуждения. А такие случаи тоже редко, но бывали. Я думаю, в практике любого человека, который долго ведёт семинары, такое неизбежно случалось.
Л.М.: Неужели такое бывало? Ужасно страшно...
Б.К.: Это ещё не самое страшное. Хуже, если человек начинает осознанно создавать негативную репутацию тому же «Полёту разборов», он пишет в Фейсбуке в грубых выражениях, там начинается поддержка по такому принципу: «Ты крутой, тебя критиковали ничтожные люди, не обращай внимания на всех этих придурков». Далее он начинает распространяться – мол, не ходите туда, – перевирая подробности собственного обсуждения или вынимая из него то, что ему нужно для создания плохой репутации проекта (да-да, сила чёрного пиара тут тоже действует, но я никогда не хотел именно чёрного пиара). Если человек уходит молча, это говорит о чувстве собственного достоинства.
Л.М.: То есть первый принцип – это предупреждать участвующих поэтов об отрицательной критике; второй – не выносить сор из избы. Так получается?
Б.К.: Нет, последнее не обязательно. Ты же не можешь запретить человеку написать в Фейсбуке о своих впечатлениях. И я не помню, чтобы кто-то из мастеров так делал. А сейчас обсуждения вообще перешли в Zoom и стали более открытыми – думаю, и впоследствии мы не откажемся от прямой трансляции. Но человек же может написать и положительный пост о своих впечатлениях, и таких было больше: чаще всего люди радуются, что их обсудили на «Полёте разборов». К Вашему вопросу, как вести семинар: уравновешивать положительные и отрицательные точки зрения. Человек, присутствующий на обсуждении, всегда в позиции уязвимого. Нужно сказать что-то юмористическое, что-то тёплое, как-то поддержать человека. Нужно дать понять, что он не один среди этих негативно настроенных людей, – если они действительно негативно настроены. Хотя давно уже на «Полёте» такого нет. Наверное, и я чему-то научился с годами – сами поэтики соответствуют уровню своих обсуждений, и те и другие чаще всего очень достойные.
На «Полёте разборов» есть правило, которое я выработал для себя: с одной стороны, не приглашать совсем состоявшихся поэтов (за редкими исключениями), с другой – не приглашать графоманов. Потому что состоявшийся поэт, как правило, пренебрежительно или равнодушно отреагирует на критику, а в случае с безнадёжным автором обсуждение может выродиться в учебный семинар и приобрести негативный характер. Если же в первом случае возникнет перекос в учебную сторону, это этически неправомерно; во втором же случае может создать негативную репутацию семинара. Такого баланса стараюсь придерживаться. Опыт – сын ошибок трудных.
Первоначально «Полёты разборов» были не такими: часто возникала конфликтная среда, но мне не хотелось этого хайпа. Хайп неизбежно означает популярность проекта; умное «университетское» обсуждение, которое не выносится волной комментариев в Фейсбук, такого хайпа не создаёт, – автор доволен, критики счастливы, но зачастую эти счастье и довольство остаются только в нашем кругу. И всё же я сделал выбор в сторону последнего. И мгновенно утратилась... ну не то чтобы обратная связь, всё-таки проект востребован, люди подают в него заявки. Но такого, как в 2015 году, когда комментаторы писали: «Вся лента во вчерашнем «Полёте разборов», – такого уже нет. Ну и слава Богу, наверное, что больше нет. Считаю, что конфликт на «Полёте разборов» для меня – просчёт как для организатора: я никогда его не провоцирую и не всегда могу его предотвратить, но тем не менее.
Л.М.: Я бы совершенно не вынесла таких отношений.
Б.К.: А что бы Вы сделали? Прекратили вести семинар?
Л.М.: Если я попадаю в такие отношения, где нет личных границ, где люди их переступают, – я просто не задерживаюсь в таких компаниях.
Б.К.: Это если Вы не сами создали компанию. Если же сами её создали, Вы можете подумать, как сделать так, чтобы в этой компании были другие люди. Но в любом случае, не совсем прекращать проект. Некоторые критики, которые не выдержали заданной планки обсуждения, больше не участвуют в «Полёте разборов»: это не обязательно связано с неумностью или плохим воспитанием, скорее – с тем, что критик не вписывается в формат мероприятия. Скажем, он с блеском выступает в журнальных статьях или эссеистике, а на устном обсуждении проваливается. Ну не его это жанр. Или оказывается, что он со времени написания своих статей утратил ощущение реальности в литературе. Или был случай, когда я пригласил замечательного прозаика и критика прозы: не буду называть, безумно талантливый человек. Я поддался волне этой безумной талантливости и общей приятности человека. И вот сидит прозаик, и оказывается, что он ни бельмеса не понимает в стихах, ну просто ни бельмеса. При этом самоуверенно говорит о них. Это профессиональный позор. Разумеется, участие такого человека в твоём проекте становится единовременным, но ты можешь прекрасно сотрудничать с ним в других жанрах, и потом внимательнее приглядишься, кого приглашаешь. Элементарный закон – несколько раз подумать, взвесить, почитать высказывания. И вот такими вот медленными шажками выравнивается среда и приходит к здоровой форме.
Создание собственных проектов – это ещё и способ дистанцирования от литсреды с её мелким эгоизмом. В какой-то момент я очень остро почувствовал, что не вписываюсь, и начал делать своё. Но совсем дистанцироваться нельзя, иначе ты просто потеряешь ориентиры, установки – такие случаи мы тоже наблюдаем. Можно просто задействовать нужные тебе кадры, а с другими (с кем не получается сотрудничать именно в рамках твоих проектов) взаимодействовать на одностороннем уровне.
Л.М.: Скажите, а Вам не кажется странным такое явление, как коллективный разбор стихов? Почему бы не разобрать их в индивидуальном порядке?
Б.К.: Я разбираю их и в индивидуальном порядке. Любой автор может обратиться ко мне через страницу на сайте Pechorin.net, до этого была и страница на сайте «Книжная экспертиза» Creative Writing School. Более того, индивидуальное обсуждение психологически проще – в том числе и мне. Я больше люблю писать рецензии напрямую авторам, чем журнальную критику, – потому что ты понимаешь, на кого твоя критика направлена, есть целевой адресат. Статью ты нередко пишешь с неохотой, с чувством утомления, с ощущением, что мало кто её прочитает. Интервью или «внутренняя» рецензия – адекватнее.
Л.М.: А что влечёт людей на обсуждения?
Б.К.: Разное. Многие, в том числе и очень любимые мной поэты, отказываются от участия в «Полёте разборов» в силу собственной интровертности. Им неудобно сидеть на обсуждении и слушать критику. Я сам в какой-то момент категорически отказался от публичных разборов собственных стихов – потому что я могу держать лицо, но не могу скрыть все эмоции. Много наслушался глупостей. Часто вспоминаю строки Кушнера о том, что «всё знанье о поэзии в руках пяти-шести», но и не могу не понимать и того, что моя поэтика, довольно герметичная, не располагает к немедленному принятию.
Но внезапно было одно исключение – недавно, на декабрьском семинаре Людмилы Вязмитиновой. Я шёл с неохотой, с ощущением, что будет как всегда, – и оказалось по-другому, я вышел счастливым и довольным. Там было немного народу и, может, из-за немногочисленности создавалась очень адекватная, профессиональная атмосфера. И, конечно, из-за вдумчивого прочтения текстов.
А что касается Вашего вопроса – иногда влечёт жажда пиара. Публичное обсуждение, на которое заранее собирается народ, тебя читают эксперты, приходят сторонние зрители, идут рассылки по многим каналам, – это всегда реклама, понятное дело. Поэтому, если человек психологически готов к публичному обсуждению, он стремится на него. Некоторым людям эта рекламная сторона вообще важнее, чем направленность обсуждения. Я помню, что одна из поэтесс, которую я пригласил, сидела с совершенно блаженным видом: я понимал, что она наслаждается всем, что о ней говорят. Самим фактом, что говорят о ней. И хоть плюнь в глаза. Люди изголодались по вниманию, которого сейчас остро не хватает многим. Есть такие ситуации, как в анекдоте про моль, которую хотят убить, а она думает, что ей восторженно аплодируют, и потом рассказывает, как она прекрасно провела вечер в присутствии зрителей.
Л.М.: Вернёмся к Кириллу Владимировичу. Как складывались отношения с Ковальджи в конце жизни?
Б.К.: В какой-то момент он очень деликатно попросил меня не приглашать его к участию в моих проектах. Написал, что очень благодарен и что экономит силы на самое важное. Видимо, он чувствовал свой скорый уход. Я внял просьбе. Мне очень хотелось пригласить его критиком на «Полёт разборов», но я помнил эту просьбу. Звонил ему, если не ошибаюсь, осенью 2016-го и сказал тёплые слова, – его голос был уже очень слаб. А весной 2017-го его не стало.
Л.М.: Для Вас его уход – страдание? Утрата?
Б.К.: И страдание, и утрата. При этом, наверное, меньшая утрата, чем если бы погиб какой-то молодой человек. Потому что всё-таки ощущение этой утраты сопряжено с пониманием, что человек прожил долгую жизнь, что он ушёл в пору заката. Что он останется в памяти современников. Ты морально готовился к этому, потому что понимал, что это случится если не завтра, то послезавтра. Тем не менее, я помню, как я узнал об этом: я был в Вологде, мы гуляли с поэтессой Марией Марковой. Мне позвонил Владимир Коркунов и сказал, что умер Ковальджи. Я тогда работал редактором в журнале «Лиterraтура» – и у меня мгновенно восприятие этой новости перешло в редакторский формат. Можно было плакать, распускать нюни, а можно было подумать, что сделать для памяти человека. Последнее более конструктивно. И я попросил Вову провести опрос в честь его памяти – и он мгновенно, с колёс, стал проводить опрос, где разные литераторы вспоминали о том, чем для них был важен Ковальджи. Потом мы опубликовали замечательную статью Елены Шуваевой-Петросян о его стихах. Обязательно будет материал в «Учительской газете» – мне жаль, что он не состоялся в прошлом году, к его 90-летнему юбилею. Есть чувство выполненного долга, когда что-то делаешь для памяти учителя.
Я предлагаю завершить его стихами, мы очень мало сказали о нём как о поэте. Часто вспоминаю вот это ёмкое четверостишие 2007 года:
Сколько надо таланта и дури,
чтоб, мечтая о личном венце,
посвятить себя литературе
не в начале её, а в конце...
И ещё – особенно концовка этого стихотворения, которая очень близка мне мировоззренчески:
Суждено горячо и прощально
повторять заклинаньем одно:
нет, несбыточно, нереально,
невозможно, исключено...
Этих детских колен оголенность,
лед весенний и запах цветка...
Недозволенная влюбленность –
наваждение, астма, тоска.
То ль судьба на меня ополчается,
то ли нету ничьей вины:
если в жизни не получается –
хоть стихи получаться должны.
Комом в горле слова, что не сказаны,
но зато не заказаны сны:
если руки накрепко связаны –
значит, крылья пробиться должны.
Л.М.:
Смотрю: по-прежнему в небесной сини
всё те же журавли.
При мне построили гостиницу «Россия»,
при мне снесли...
***
Когда душе
уже
за сорок с лишним лет,
не так легко
ее
ронзает новый свет.
Зато, когда вокруг
смеркается,
смотри:
она напоена
свеченьем
изнутри.
1975
.jpg)
На фото: Любава Малышева и Кирилл Владимирович Ковальджи (автор фотографии Наталья Полякова)
На обложке статьи: Кирилл Ковальджи, Нина Краснова, Борис Кутенков.

.jpg)
.jpg) Автор статьи: Кутенков Борис.
Автор статьи: Кутенков Борис.



